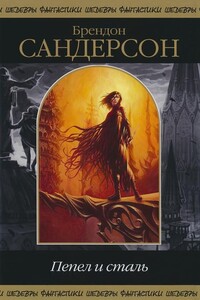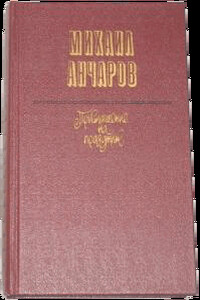— А ну, пусти руки, кикимора болотная, — деловито сказала она Миноге. — А то врежу между глаз.
А Гошка сунул пальцы в рот и свистнул. Он уже умел.
— Шпана, — сказала Нюшка. — Ворье проклятое.
А дед перелез через подоконник во двор.
— Расходитесь, расходитесь, — призывал домоуправ.
Потому что Зинка тоже была пролетарского происхождения.
А Зинка посмотрела на Гошку со сдержанным удивлением. Она знала, как Гошка сказал про нее не колеблясь и во всеуслышание, и всегда смотрела на него со сдержанным удивлением.
— Ах ты, Минога, — сказал дед. — Ну смотрите, жильцы, эта девка еще наклюет дел. Вот вам мое петушиное слово.
А домоуправ пообещал позвать Соколова. Но почему-то не позвал. И гости разошлись с этих поминок.
— Чистое кино, — сказал дед и ушел последним.
И все дворовые ребята перешли к текущим делам дня.
Но что-то случилось все-таки.
И Гошка полез в Малую энциклопедию и нашел там слово «минога»: «Миноговые — семейство круглоротых рыб, ведущих полупаразитический образ жизни, тело сильно удлиненное, рот круглый, образует сильную присоску, вооруженную роговыми зубами, которыми минога прокусывает кожу своей жертвы. Поздней осенью она начинает подниматься вверх по рекам, мечет икру и возвращается в море».
…А когда уплыл последний корабль и Лешку Аносова с Костей Якушевым увезла железнодорожная милиция, Гошка вдруг понял — и все же можно было не ездить. Потому что какой от него толк в Испании. Он бы ел чужой хлеб, а нужно самому быть мельницей. Стоять на вечерней запруде и работать жерновами от рассвета до заката, тогда ручеек хлеба и радости не иссякнет, и его, хочешь не хочешь, дождутся океанские корабли… «В дорогу… в дорогу… в дорогу… в дорогу…», — как пел Чирей, и нужно еще догадаться, что ты сам можешь дать веку, пусть даже одно зернышко, но свое.
Гошка выбрался из-за ящиков, подошел к огромным опорам крана и задрал голову. Он увидел отчаянную десницу крана — тот прощался с уходящим на закат кораблем.
Гошка прислонился щекой к нагретому чугуну и почувствовал, как дрожит кран, и услышал стон чугуна.
Он отстранился, опустил глаза до самой огромной опоры, вздохнул и сказал чугуну, зудящему, как ссадина:
— Не бойся. Я вырасту. Подожди, — сказал он.
И стон чугуна утих. Может быть, потому, что Гошка отошел от крана, а может быть, потому, что слово сильнее дрожи.
Гошка еще раз оглянулся на кран и увидел, что стрела его светится закатной улыбкой. Он вздохнул еще раз и пошел к проходной будке порта сдаваться в плен.
Время было летнее, школьные каникулы. Когда Аносова, Якушева и Панфилова доставили в Москву, то начальник районного отдела милиции, лысый дядька в скрипучей портупее, сказал, что замнет дело, если они дадут ему два обещания. Первое — ни в школе, ни дома не рассказывать, что хотели удрать в Интернациональную бригаду, потому что у него уже мочи нет, а иначе гнать таких надо к чертовой матери из комсомола, а второе — поступить в автошколу. Соколов Гошку не узнал, а Гошка узнал его сразу, и это понятно, для Соколова эти годы как один день, а для Гошки — треть жизни. Вот странно только, что можно не узнать друга, даже если ему теперь не двенадцать лет, а шестнадцать.
Их набралось человек шестьдесят, «испанцев» с Благуши, и на этой «испанской» базе организовали автошколу в переулке между Семеновской и Немецким кладбищем с узорчатой кирпичной стеной. Дали им полуторку, и они изучили конуса и карбюраторы, и Гернику и коробку передач, и Гвадарраму и охлаждение, и Гвадаллахару и зажигание, и сдавали практическую езду на водительские права — главное, чтобы мотор не заглох на перекрестках и вовремя посигналить, выезжая из переулка, не рвать баранку и твердая нога на газе, а улица проскакивает домами и прохожими, гремят борта на выбоинах асфальта, и шелестит июльская листва, а потом устные экзамены — уже перед самой школой, и шелестят августовские листья.
Соколов поставил пятерки почти всем «испанцам», и только одному поставил двойку, рыжему парню с Барабанного переулка, потому что этот парень был самый добросовестный, Ему достался хороший билет — аккумуляторы, — и он сказал: