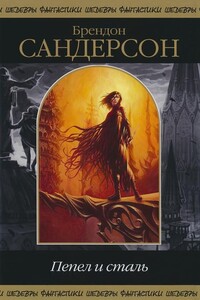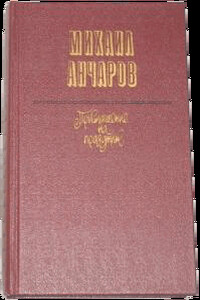На шоссе я увидел летящую навстречу машину. Только когда она приблизилась, я понял, что едут она и старик.
Глаза ее расширились мне навстречу, как два цветка, и она все смотрела на меня. пока приближалась машина.
Старик сидел рядом с шофером. Я поклонился им и сделал вид. что прогуливаюсь в этих местах. Машина укатила.
Через двое суток в ночных известиях я услышал по радио, что умер великий режиссер.
Потом были похороны, и я сам вытаскивал гроб из серого автобуса с черной полосой, а потом стоял в почетном карауле.
Тихо играли скрипки, плакали люди, и его было еле видно среди цветов и лент.
Когда все кончилось, я остался один. Совсем один. Совсем. Этой девушки я больше не видел никогда и даже не знаю, кто она такая, так как ни о чем не расспросил ее, а теперь спрашивать было некого.
Через месяц, когда я оправился после потери, ко мне пришли мои приятели Гошка и Алеша, у которых тоже были свои неудачи, и Гошка сказал:
— Судьба похожа на сумасшедшего — визжит, плачет, смеется, ухает, сопит, чавкает, — и ни одного приличного звука.
— Что ты считаешь приличным звуком? — спросил Алеша.
— Между прочим, не то, что ты думаешь, не музыку.
— Я не думаю, — сказал Алеша. — А что?
— Когда летним утром деревья стоят в росе, а вдалеке бьют молотом по наковальне.
— Ух ты!.. — сказал Алеша.
— А что?
— Здорово…
— Представляешь? — спросил меня Гошка.
— Да, — сказал я.
— Знаешь, какой звук? Когда хочется подхватить:
«Мы кузнецы, и дух наш молод, — сказал Гошка, — куем мы счастия ключи».
— Да, — сказал я. — Надо работать.
А сейчас я случайно встретил ее в гостях.
— Меня зовут Костей, — сказал я, когда мы удрали с вечеринки.
— Господи, — сказала она. — А вы меня, конечно, не помните…
Конечно, я ее помнил.
Я пожал ее руку — очень вежливая мягкая рука. Потом мы поболтали о том, о сем, а потом я с ней попрощался и усадил ее в машину, и она уехала домой. А я вернулся на вечеринку. Я уселся в углу и стал тихо-тихо смотреть телевизор и все старался забыть ощущение, которое пронизало меня, и когда я пожимал эту тихую вежливую руку и на одном из нежных пальцев почувствовал гладкое кольцо.
Как вы думаете, зачем я рассказал эту печальную и обыденную историю о том, как человек не понял другого, не догадался, прошел мимо красоты, а потом удивляется, что ему не сладко, когда обнаруживает, что веселая птица-счастье окольцована чужим кольцом?
Нет. Не угадали. Я рассказал эту историю потому, что, когда я познакомился с ней, мне было тридцать два года, а ей шестнадцать. А сейчас не за горами конец двадцатого столетия.
Давайте поговорим о чем-нибудь таком. О звездах. например, или о дорогобужском сыре — как его есть, снимать ли серебряную фольгу перед тем, как резать, или совсем наоборот — оставлять ее? Или поговорим о том, как парочки целуются в подъездах. Только не стоять на месте. Двинемся, граждане, двинемся.
Все дело в том, что неизвестно, какое твое движение может решить проблему, поставленную жизнью. Ведь даже отсутствие движения — это движение. Ничто не останавливается, пока ты сидишь и ждешь. Все движется вокруг и, проезжая мимо тебя, само возьмет да и привезет тебя к цели. Только вся беда в том, что оно привезет тебя совсем не туда, куда тебе надо. А кстати, что такое это «надо»? Ты-то сам знаешь, что тебе надо?
А ведь все-таки стремишься.
Короче говоря, все сводится к простому вопросу, и потому ответ на него непонятен: как запрограммировать судьбу?
Я сидел и смотрел телевизор, где показывали тошнотворно хорошую программу, и думал: зачем мне эта программа, если это чужая программа и в ней запрограммировано чужое представление об удовольствиях, не совпадающее с моим?
Я сидел и думал: на что я надеялся, когда увидел, как она опустила журнал и посмотрела на меня, какова моя собственная программа удовольствии, ежели мне не годится рекомендованная, и почему, собственно, меня так поразило это тысячепудовое кольцо у нее на пальце?
Какие чувства я испытал, когда обнаружил кольцо? Такие же, как и вы. Привычные. Я, конечно, не содрогнулся, обнаружив это кольцо, не застонал, не заскрежетал зубами и не упал без чувств. Просто, пожимая ей руку, я сказал: