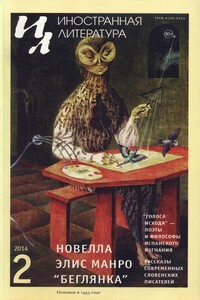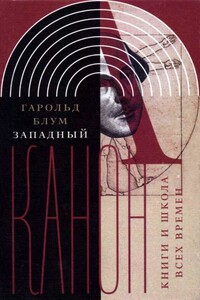Дискурс и текст можно определять как две вневременные категории, различающиеся лишь абстрактно и описывающие два уровня организации словесности. Однако в исторической перспективе их различие оказывается не умозрительным, а реальным: по этой оппозиции культура делит собственную продукцию на «текстуальную» и «дискурсивную» части. С течением времени первая из них выдвигается на центральное место, а вторая более или менее оттесняется на периферию, дисквалифицируется. Мотивировки дисквалификации могут быть разными – эстетическими (открытые тексты считаются упрощенными, стереотипными), этическими (их обвиняют в безнравственности), идеологическими (в них усматривают угрозу господствующим ценностям); но важны не эти мотивировки, а фундаментальное различие двух видов творчества. В своем самосознании литература не узнает самое себя: не отдавая себе в этом отчет, она выводит за свои рамки ряд собственных произведений, в ней есть некоторый «отверженный», не совсем признанный разряд фактов – и это не столько тексты, сколько дискурсы.
В новоевропейской культуре это саморазделение прошло через две исторические фазы. Первоначально нелитературной частью словесности считался фольклор. Эта дискриминация была социально значимой: литература и фольклор различались как благородное занятие господствующих классов и вульгарные традиции низших классов. Однако словесный фольклор отличается от литературы не только социальной принадлежностью, у него есть свои структурные, а не только функциональные характеристики. Исторически он представлял собой устное творчество, хотя эта черта не является определяющей и непременной: сегодня, в эпоху всеобщей грамотности и бесплатных электронных сервисов, образуются значительные области письменного фольклора или же «наивной литературы». Более существенна другая характеристика: фольклор анонимен и стереотипен. Первое вытекает из второго: фольклорные «тексты» можно лишь условно называть таким словом, они распадаются на множество равноправных вариантов, внутри каждого из которых много повторяющихся с вариациями готовых элементов (повествовательных эпизодов, словесных формул и т. д.), и у таких вариативных образований нет индивидуального автора. Сочинителями фольклора могут быть разные лица, но не разные авторы. Его стереотипность изначально, вероятно, проистекала из его устного обращения: лишенное письменной фиксации, устное творчество может сохраняться только путем запоминания, для чего удобны более или менее однородные «формульные» синтагмы, варьирующие одни и те же условные схемы и клише, так что забытый фрагмент можно восстановить с помощью элементов, взятых из общего фонда стереотипов.
Массово повторяющаяся продукция фольклора обладает особым семиотическим статусом, о чем писали Роман Якобсон и Петр Богатырев в статье «Фольклор как особая форма творчества» (1929), применяя к определению фольклора соссюровское разграничение языка и речи. Произведения фольклора располагаются в плоскости абстрактной системы, они ориентированы на язык, и все его произведения проходят «предварительную цензуру коллектива»[67]. Такое произведение «внелично и существует только потенциально, это только комплекс известных норм и импульсов, канва актуальной традиции, которую исполнители расцвечивают узорами индивидуального творчества, подобно тому как поступают производители parole по отношению к langue»[68]. Повторяясь в вариациях у разных певцов или сказителей, фольклорный сюжет присутствует в сознании каждого слушателя, который ждет от исполнителя верного воспроизведения этого сюжета и подвергает «цензуре» (осуждению, забвению) любую нарушающую его инновацию. Напротив того, литература, с ее лично-авторским характером, с ее усиливающейся установкой на новизну и оригинальность текста, ориентирована на «речь» – то есть на актуальность и неповторимость конкретного высказывания. В фольклоре все внесистемное отмирает, в литературе оно имеет большие шансы включиться в новую, нарождающуюся систему; фольклор работает «на заказ», по заранее известному шаблону, тогда как литература – «на сбыт», исходя из непредсказуемых изменений рыночного спроса