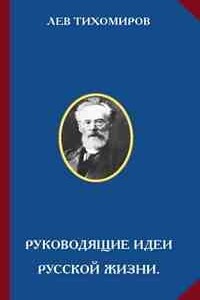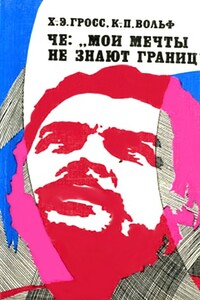Религиозное воспитание, конечно, отс>тствовало, и вообще религия из жизни колонии была изгнана. Для того чтобы не являлось каких-нибудь протестов со стороны духовенства, Еропкин умел устроить так, что в священники соседней с Береговой деревни был посвящен один местный учитель, сочувствовавший еропкинцам.
Насколько мне известно, внутренняя жизнь «интеллигентной колонии» была вполне прилична. Но труд колонистов не обеспечивал их существования. Еропкин постоянно занят был добычей средств для субсидирования своей общины. Он даже мало и жил в ней, находясь больше в разъездах в Москву и Петербург. Не знаю судеб колонии очень давно. Но она не распалась и, быть может, существует до сих пор. Во всяком случае, она пережила своего основателя.
Еропкин в конце 90-х годов стал болеть, не знаю чем — какими-то, кажется, проявлениями подагры, принужден был лечиться и даже, помнится, ездил для этого за границу. Болезнь уменьшила его трудоспособность, и он вообще стал старчески слабеть. Я его уже много лет не видал и лишь от знакомых узнал о его смерти.
Не знаю, как он подводил итоги своей жизни, покидая ее. Но по моему мнению, из его системы «перестройки извнутри» не вышло много результатов, особенно принимая во внимание его силы и способности. Крупнейшее его создание — община в Береговой, даже и по идее своей не дала ничего большего, чем любая «крайняя» меннонитская колония, кроме разве того, что в еропкинской общине совершенно исчез религиозный элемент. Она вышла узко замкнутой внутри себя сектантской общиной, не имевшей никакого влияния на окружающий мир. В Новороссийске, Геленджике, вообще по Черноморской губернии иные поддерживали знакомства с еропкинцами, иные их очень не одобряли, особенно за детей. Но все вообще не смотрели на них серьезно, не видели в них даже врагов, а относились чаще всего с добродушной насмешкой, как к каким-то чудакам. Для реформаторов жизни вряд ли может быть что-нибудь более печальное. Да среди колонистов, как и вообще среди множества людей, на воспитание которых Еропкин тратил свою недюжинную силу, не оказалось, насколько мне известно, ни одной крупной личности, какие оставляют по себе основатели обычных сект. Некому было продолжать дело Виктора Васильевича, да ме оказалось и «дела», которое можно было бы продолжать.
Покинув дела своих отцов, Еропкин сделал кое-что для подрыва и разрушения того, что они созидали, но так и не произвел ничего способного «извнутри пересоздать» то, что он подрывал. Если даже он и поддержал идею коммунизма, то совершенно отличную от той, которая проявилась в 1918 году. Еропкин думал о коммунизме добровольном, нарастающем «извнутри», то есть стоял на точке зрения коммунистических сектантов, но с отбросом религиозных мотивов, осмысливающих ее у сектантов. Эта-то идея и заглохла, не дав никаких ростков.
I
За время своей нелегальной жизни я, как и все прочие сотоварищи, был, конечно, в постоянной опасности попасть в руки полиции. Несколько раз я попадал под слежку и был принужден менять квартиру, паспорт и наружность. Но все это составляет нормальную, так сказать, обстановку жизни нелегального. К этому в конце концов привыкаешь и не чувствуешь никакой особенной тревоги, тем более что я принадлежал к могущественной организации исполнительного комитета («Народной воли»), который быстро помогал выйти из всякой опасности. От него можно было моментально получить деньги на новый костюм, он выдавал также моментально любой новый паспорт. Несколько товаришей моментально помогали сбить со следа полицейских агентов, временно укрыть в какой-нибудь другой квартире и т. д. Вообще, если приходилось подвергаться постоянной опасности, то не оставался ни на минуту без способов избегнуть ее. Таково было положение всех членов и агентов исполнительного комитета в Петербурге, сосредоточия всех его учреждений.
Но это нормальное положение нелегального круто изменилось в 1881 году, после 1 марта, то есть цареубийства Александра II. Нужно сказать, что еще до 1 марта, в начале 1881 года, исполнительный комитет понес тяжелые потери наиболее ловких своих членов и был уже сильно расстроен. Между тем в полиции появился в своем роде гениальный организатор сыска — Судейкин. Когда произошло цареубийство, полиция начала неслыханную до того времени травлю на все подозрительное. Каждый день захватывали множество революционеров и сочувствующих им людей, и каждый арест давал повод к новым арестам. С каждым днем становилось труднее жить, собираться, не говоря уже о том, чтобы что-нибудь делать. Организация исполнительного комитета была настолько расстроена, что ее необходимо было сколько-нибудь упорядочить. Сделать же это в том ураганном огне, который потрясал Петербург, было невозможно. Поэтому уцелевшие от разгрома члены комитета перебрались в более спокойную Москву и здесь — насколько было возможно — занялись воссозданием организации. По крайнему недостатку людей решено было «принимать по пониженному цензу», то есть таких, которые не имели еще ни достаточной выработки, ни опыта, не были даже достаточно испытаны на работе. Но ничего другого не оставалось делать. Засим комитет распределился по-прежнему на отделы, хотя при этом прежний — боевой, террористический — не был восстановлен по неимению руководителей и потому что террористическую деятельность решено было временно прекратить. Таким образом, деятельность обновленного комитета направилась на выработку сил, пропаганду государственного переворота, организацию кружков, восстановление связей с провинцией, добывание денег, восстановление паспортного стола, устройство типографии, которая и была действительно основана Зеге фон Лау-ренбергом. Но в сущности, псе это производилось шумно, неосторожно, совсем не по-старому. Люди-то были действительно очень «пониженного ценза» с революционно-заговорщицкой точки зрения. В это время на помощь революции прибыло несколько человек из-за границы, между прочим, известный Яков Стефанович и Романенко. Но и они мало подходили к русским условиям, и оба были скоро арестованы. По окончании организации восстановленного комитета несколько человек возвратились в Петербург, в том числе Савелий Златопольский и Грачевский