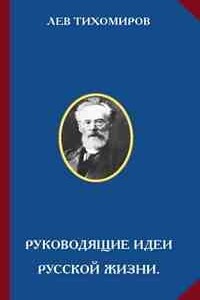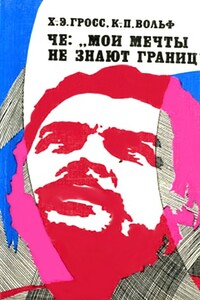Это маленькое предисловие я делаю для того, чтобы объяснить, каким образом пришлось мне спасаться бегством в глубине России. О моем отъезде знали только Оловеникова и Златопольский, верные товарищи по старому исполнительному комитету. Кстати сказать, Мария Николаевна по обнаружении шпиона на своей лестнице и сама покинула квартиру, а Богданович досиделся до того, что его арестовали.
II
Я двинулся в путь с женой, наметив себе конечным, пунктом Казань. На всей этой линии у нас не было ни одного агентурного кружка, а у меня лично не было и никаких знакомых, так что я не рисковал соприкасаться ни с какими революционными элементами, исключая разве какие-нибудь случайные встречи. Жену я не хотел бросить одну, да присутствие ее было даже очень полезно, придавая мне обывательский, семейный вид. Для полной замаскировки какого-нибудь политического характера в себе я решил выдавать себя за молодого ученого, исследователя быта, верований и юридических обычаев инородцев Средней Волги. Соответственно с этим я даже составил очень недурную программу своих исследований, понятно, не для того, чтобы сделаться действительно этнографом, а для того, чтобы уметь выдержать принятую на себя роль в случае каких-нибудь дорожных расспросов. В то время повсюду шныряло множество шпионов, и нужно было, чтобы я при какой-нибудь случайной встрече ничем не возбудил в них подозрительного внимания.
Итак, я пустился в путь, и несколько недель, на которые растянулось мое странствование, составляют одно из лучших воспоминаний в жизни. Я чувствовал необычайную легкость на душе, сделавшись простым обывателем, оставивши политику далеко за спиной. В довершение все путевые впечатления на этом пути были для меня совершенно новы, начиная с самого Нижнего Новгорода.
В Нижнем ни я, ни жена до тех пор не бывали, и город поразил нас своей бойкой промышленностью и типично русской наружностью. Здесь нам пришлось сделать остановку. Дело происходило в трескучую зимнюю пору, в феврале месяце 1882 года. От Нижнего до Казани тогда не было железной дороги, и весь путь предстояло сделать на лошадях. К такому путешествию требовалось подготовиться очень внимательно. В наших городских шубах нельзя было ехать по таким морозам. Нужно было купить под них полушубки, нужны были валенки, рукавицы, войлоки. Да и для прочего своего обихода требовалось приобрести немало разных вещей, которых мы нс могли захватить при спешном бегстве из Москвы. Приходилось, стало быть, немало походить по лавкам и базарам. Но мы могли заниматься этим совершенно покойно. Если бы мое бегство из Москвы было замечено шпионами, то нет сомнения, что нас арестовали бы на железной дороге, и раз этого не случилось, это было очевидным доказательством, что мне удалось ускользнуть незаметно.
Итак, мы были в самом веселом и беззаботном настроении. Невозможно передать не испытавшему этого всю отраду, которая охватила нас при мысли, что и революция, и все наши радикальные кружки, и слежка, и шпионы, и всякая конспирация — все осталось позади. Ни о чем подобном не требовалось думать. Мы были свободные, мирные обыватели и занимались своими делами, как прочие обыкновенные люди. Покой и счастье охватывали душу. Что ждет в будущем, сколько времени может длиться наше блаженное существование — мысль об этом мы гнали прочь и наслаждались настоящим моментом, пока он был наш.
Остановились мы, конечно, я гостинице и с утра до вечера ходили по городу, занимаясь своим снаряжением. Все нас занимало и привлекало. Помню, с каким веселым смехом мы показывали друг другу огромную вывеску, плакат в несколько аршин длиной, огромными буквами: «Рядись — берегись, давши слово — держись* — целая философия нижегородской торговли.
Я нашел время побывать в библиотеке и составить себе маленькую библиографию сочинений, относящихся к поволжским инородцам. Дома набросал программу своих будущих исследований. Так были положены начатки моей этнографической учености.
Относительно поездки у нас возник важный вопрос: ехать ли нам казенной почтой или на вольной? О существовании последней мы узнали на базаре и даже повидались с мужиком, который был агентом этой крестьянской почты. Она помещалась тут же, в одном углу базара. Десятка полтора саней стояли готовые в ожидании седоков. Учреждение оказалось очень любопытным. По всему тракту от Нижнего до Казани мужики разных деревень организовали ямщичью артель. Ехавший из Нижнего уплачивал их представителю всю стоимость пути и нагружался на выбранные сани. Затем ямщик вез его до условленной между крестьянами деревни и сдавал тут седока следующему ямщику, и так они передавали седока с рук на руки до самой Казани. Вольная почта брала дешевле казенной, и мы видели на базаре несколько нанимателей этих троек. Они нас уверяли, что мужики везут очень аккуратно и не допускают никакого злоупотребления, несмотря на то что деньги за весь путь уплачиваются вперед. Вот как народ умел самостоятельно организовать пути сообщения до появления железных дорог. Мы сначала колебались. Было очень соблазнительно испробовать крестьянскую почту. Но в конце концов мы решили не делать опытов в такие морозы, а ехать с обычной, известной уже, нам казенной почтой.