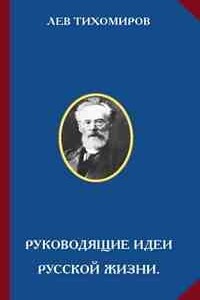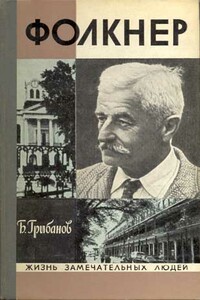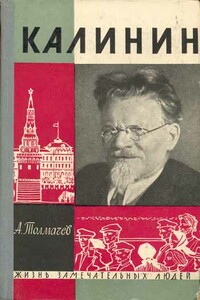«Студенческие учреждения» были повсюду: библиотеки, столовые, кассы. Иногда они поощрялись начальством; так, в Петербургском технологическом институте существовала читальня почти официальная. Вообще говоря, студенты читали мало. Однажды m-me Аксакова зашла зачем-то с моим братом в университетскую библиотеку. Дело было перед каникулами. Студентам у нас не выдавалось билетов на отъезд без представления ими в канцелярию свидетельства о том, что за ними не числится библиотечных университетских книг. Множество студентов толпилось в библиотеке. М-ше Аксакова восхитилась: «Как отрадно видеть такое множество студентов в библиотеке». «Увы, — отвечал Владимир, — все эти студенты пришли сюда лишь за тем, чтобы взять удостоверение о том, что не посещали библиотеки». Это было совершенно верно. Они пришли именно за этим и библиотеки не посещали. Вообще, в библиотеке читали и работали очень мало. Но заводить свои библиотеки, тайные, запрещенные, — это другое дело. Это интересовало. Тот самый Вагнер, о котором я говорил, задумал устроить библиотеку на таких основаниях: вместо платы за чтение каждый абонент (они, помнится, назывались «члены») должен был внести известное число книг, которые известное время оставались обязательно в пользовании библиотеки. Таким путем Вагнер собрал тысячи две, помнится, томов. Необходимо понять это: молодежь интересовало. не чтение, не наука, даже не истина (которая была вполне твердо предрешена и, в сущности, исканию уже не подлежала), а деятельность, приложение своих сил. Говорю это не с каким-либо особенным осуждением, потому что, в конце концов, это дело естественное, глупы были лишь сама форма деятельности и ее содержание, а не стремление. Но — хорошо это или дурно — факт именно таков: искали деятельности, и деятельности непременно непосредственной и внешней.
Со стороны начальства все эти приложения сил фактически были вполне свободны. Сходки были явлением обычным повсюду, где их хотели. В Киеве студенты, идущие на сходку, спрашивали городовых: «Где тут студенты собираются? Куда идти?» И городовой очень спокойно указывал путь. У нас в Москве сходки были не в моде тогда. Но когда это понадобилось, и мы собирались по сорок человек, в разных квартирах. Кассы, столовые — все это существовало повсюду, имело свои уставы, собрания и так далее. В принципе это было запрещено. Помню, раз вывесили в университете объявление, что за принадлежность к каким бы то ни было не утвержденным законно обществам студенты исключаются. Тогда один из членов нашей кухмистерской потребовал, чтобы его вычеркнули из числа членов, но зато несколько человек немедленно записались, чисто в лику начальству, которое, впрочем, ничего этого не знало, не ведало.
VIII
Но где же были собственно «революционные», эаго-ворщицки-бунтовские элементы? Собственно, в 1870–1871 годах их в открытом состоянии не было. Были отдельные личности, недобитые, нечаевских времен, которые мечтали, но в одиночку, втихомолку, а гласно они ничего не делали, кроме поощрения всяких «развитий», «учреждений» и тому подобного.
Были у них случаи ссылок. От нас в 1870 году сослали административно Всеволода Лопатина>16, из Петровской академии выслали Аносова>17, Пругавина>18, Обухова и еще кого-то. Подробности этих историй у меня изгладились уже из памяти, помню только (знаю это от Аносова, позднее большого моего приятеля), что дело было вздор: какие-то сходки, речи, чепуха, не касавшаяся никаких «основ». Это не значит, что не было революционеров. Но никаких революционных опытов они не делали вплоть до долгушинцев и чай-ковцев окончательной формации, то есть до 1872 года.
Я знал многих долгушинцев: самого Долгушина>19, Папина>20, Плотникова>21, Гамова>22 и других. Но собственно близок к их затеям не был, так что более или менее интимной стороны их кружковой истории не знаю. В общих чертах она такова. Основа будущего кружка, то есть Долгушин и, кажется, также Дмоховский>23, была из остатков нечаевских времен. Около них мало-помалу, на почве, впрочем, разговоров, сбилась группа, которую звали «кружок двадцати двух». Было ли их действительно двадцать два человека, не знаю. Но этот кружок двадцати двух, во всяком случае, к «делам» не приступил. Думаю, что из этого кружка выделились лишь более крайние элементы (Долгушин, Дмоховский, Папин и Плотников — и только, вероятно), которые в 1872 году решили перенести свою деятельность в Москву, чтобы попытаться произвести в народе восстание. Они смеялись над «книжниками»-чайковцами и думали, что нужно начинать прямо с бунта. Остальных своих сторонников, фигурировавших на процессе, а также и ускользнувших от процесса, они понабирали уже в Москве. Из этих сторонников иные (как Гамов) присоединились к ним