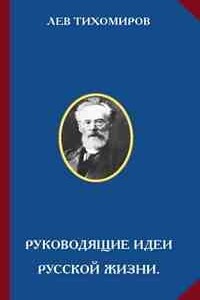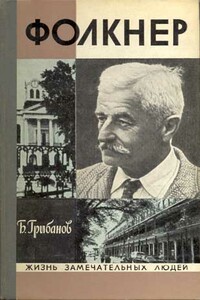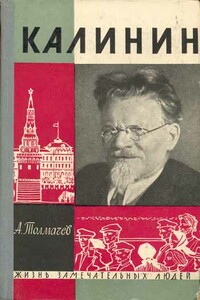VII
Собственно в политическом отношении то время (конец 60-х — начало 70-х годов) было спокойно, то есть без всяких внешних доказательств. Оно имело в этом отношении много аналогии с настоящей эпохой.
Насколько я мог слышать и понять, заговор Нечаева был некоторого рода насилием над молодежью. Идти так далеко никто не намеревался, а потому система Нечаева — шарлатанство, надзор, насилие — была неизбежна. Честным, открытым путем нельзя было навербовать приверженцев. Поэтому с разгромом нечаевцев наступила «реакция», то есть среди молодежи не только не было (почти) революционно действующих людей, но сама мысль о революционном действии была скомпрометирована. Нечаева масса молодежи считала просто шпионом, агентом-подстрекателем, и только его выдача Швейцарией, последующий суд и поведение Нечаева на суде подняли этого человека — или хоть память его — из болота общего несочувствия. До тех пор, повторяю, его терпеть не могли и всякая «нечаевщина» была подозрительной. Говорить о каких-нибудь заговорах, восстаниях, о соединении для этого сил и тому подобном было просто невозможно: всякий бы от тебя немедленно отвернулся.
Но я уже говорил, что взамен того ничто из существующего порядка не имело, безусловно, никаких защитников, сторонников. Было много дураков, ни о чем не думавших, но каждый даже из них — постольку, поскольку думал — был против существующего. Идеи были сушественно-материалистические. республиканские и социалистические, хотя, конечно, никто ничего не понимал толком ни в материализме, ни в республике, ни в социализме. Каждый вполне верил в «передовые» идеалы, и только считалось, что все это будет нескоро.
Несколько позднее, когда я уже «определился» в революционном смысле, приезжает к нам из Киева студент Орлов. Он был уже что-то вроде на третьем курсе и у себя в Киеве был большим «деятелем» (в студенчестве). В разговоре он мне все рассказывал о студенческих кассах, столовых и тому подобном. Эти чисто студенческие учреждения, казалось бы, не имеющие никакого отношения к разным революциям, поглощали его вполне. Идей же его в смысле политическом я никак не мог схватить. Долго я старался добиться, из чего, собственно, он хлопочет над студенческими учреждениями. У нас это считалось средством, а у них? Наконец он меня понял и ответил: «А, вы вот о чем… Ну конечно, мы хотим того же самого, как Интернационалка… Понятное дело!»
Этот бедняга даже не знал, чего хочет «Интернационалка», и был с ней знаком по «Московским ведомостям». Но все равно: это самое крайнее — значит, туда и идти; «Московские ведомости» ругают — значит, хорошо… В этаком роде были передовыми все в тогдашней молодежи — не по знанию старого и нового, не по сознательному выбору между ними, а по инерции, потому что неприлично не быть передовым.
Студенчество и вообще молодежь представляла такого рода картину. Фон — масса, мною обрисованная. Затем известное небольшое число «старых», «остатков», которые, по выражению Ш., «поддерживали священный огонь». Дальше этого их миссия не шла, и из этих весталок в штанах ни один не увлекся впоследствии в движение. Некоторая доля болтала о модном тогда устройстве ассоциаций и даже кое-где их устраивала: переплетная мастерская, где был Збо-ромирский, мастерская учебных пособий Е-на, мастерская еще какой-то чертовщины у Саблина…
Очень модны были «студенческие учреждения»: кассы, библиотеки, столовые. Тут сливалось все: и идея студенческого «самоуправления», и идея ассоциации, а для крайних это было, наконец, средством пропаганды.
«Крайние», стало быть, тоже были. Я сейчас скажу о них. Остановлюсь сначала на студенческих учреждениях и ассоциациях.
Я не знавал таких крупных представителей «ассоциационного» движения, как, например, Верещагин>1*, и говорю лишь о средних. Впрочем, мастерская Е-на была тоже очень крупное дело, да и сам он, конечно, покрупнее Верещагиных. Но вот среднее дело.
Скучающий либеральный студент, имевший известное количество лишних рублей, задумал сделать что-либо «полезное». Конечно, ничего современнее и полезнее, стало быть, не было, как ассоциация. Эту ассоциацию ему хотелось сделать с