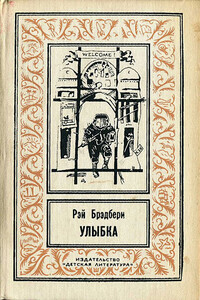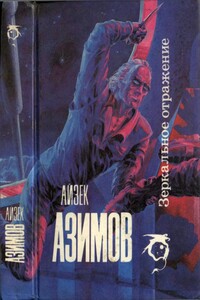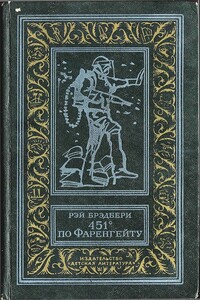Теперь то же самое случилось и с этой комнатой. Он стоял и снизу вверх смотрел на чужака. Отныне эта комната не была похожа на самое себя, в ней произошла какая-то непостижимая перемена, и все из-за незнакомца, который, как стремительная молния, залил комнату своим собственным светом. Дуглас медленно пятился к двери, незнакомец двигался за ним.
Дверь захлопнулась у него перед носом.
Деревянная вилка с картофельным пюре отправилась в рот и вернулась обратно за новой порцией. Когда бабушка позвала обедать, мистер Коберман, так звали нового постояльца, принес с собой деревянную вилку, деревянный нож и деревянную ложку.
— Миссис Сполдинг, — сказал он тихим голосом, — вот, я передаю вам мой прибор, за едой я хотел бы пользоваться им, будьте так добры, когда будете накрывать на стол, не забывайте о нем… Сегодня я пообедаю, но с завтрашнего дня буду только завтракать и ужинать.
Бабушка сбилась с ног, бегая взад-вперед из кухни в столовую, подавая дымящиеся бобы, суп и пюре, стремясь угодить новому постояльцу и произвести на него впечатление. А в это самое время Дуглас сидел за столом и позвякивал своей серебряной вилкой о тарелку — он обнаружил, что его бренчание раздражает мистера Кобермана.
— А я знаю фокус, — сказал Дуглас. — Смотрите.
И дзинькнул зубцом вилки, оттянув его пальцем. Он показывал в разные углы стола, как волшебник. И куда бы он ни ткнул, раздавалось протяжное металлическое пение, словно оттуда подает голос сказочный эльф. Тут все, конечно, просто. Он незаметно прижимал рукоятку вилки к столу. От дерева исходил дрожащий звук, и казалось, будто стол поет. Посмотришь со стороны — форменное колдовство.
— Там! И там! И з д е с ь! — выкликал Дуглас и самозабвенно играл на зубцах вилки.
Он показал в сторону суповой тарелки мистера Кобермана, и тарелка зазвенела.
Лицо мистера Кобермана одеревенело, на него стало страшно смотреть. Его передернуло. Он оттолкнул от себя тарелку с супом. И откинулся на спинку стула.
Вошла бабушка.
— Что-нибудь не так, мистер Коберман?
— Я не могу есть этот суп.
— Почему?
— Потому что я сыт и больше не хочу, спасибо.
Мистер Коберман покинул комнату, вращая глазами от ярости.
— Ну, что ты еще тут выкинул? — строго спросила бабушка Дугласа.
— Ничего такого. Бабушка, а почему у него деревянные ложки?
— Это тебя не касается! И вообще, когда наконец начнется твоя школа?
— Через семь недель.
— Это ж целая вечность! — ужаснулась бабушка.
Мистер Коберман работал по ночам. Каждое утро он заявлялся с таинственным видом к восьми, поглощал свой более чем скромный завтрак и заваливался спать в своей комнате, откуда не доносилось ни звука, и так дрых целый день, в самую умопомрачительную жару, а вечером вместе с остальными постояльцами поедал обильный ужин.
Из-за того, что у мистера Кобермана такой распорядок дня, Дугласу наказано было не шуметь. С этим нельзя было смириться. Поэтому как только бабушка уходила в гости к соседям, Дуглас принимался топать вверх и вниз по лестнице, бить в барабан, запускать в дверь мистера Кобермана гольфовым шаром и орать, стоя у его двери, по три минуты без передыху, или спускать воду в туалете по семь раз подряд.
Мистер Коберман так ни разу и не шелохнулся. В его комнате царили мрак и безмолвие. Он не жаловался. Его вообще не было слышно. Он спал себе и спал. Это было подозрительно, даже очень.
Дуглас чувствовал, что в его груди ровным огнем горит раскаленная добела ненависть. Эта комната стала Землей Кобермана. А когда там жила мисс Сэдлоу, в ней все так и светилось от пестроты. Теперь же одни безжизненные голые стены, холодные, неродные, все прибрано, вылизано, разложено по полочкам.
На четвертый день утром Дуглас поднялся наверх.
Между первым и вторым этажом было большое окно, состоящее из шестидюймовых цветных стекол: оранжевых, лиловых, синих, красных, — обрамлявших обычное прозрачное стекло. В те волшебные ранние утренние часы, когда солнечные лучи падали на лестничную площадку и скользили вниз по перилам, Дуглас стоял зачарованный у этого окна и любовался на окружающий мир сквозь разноцветные стекла.