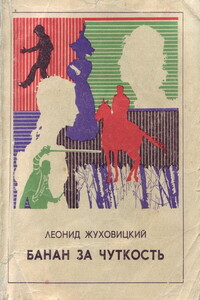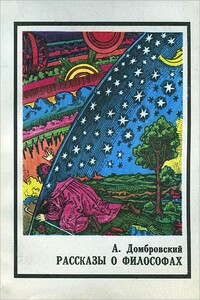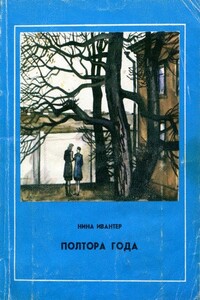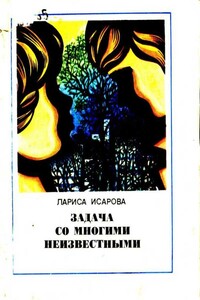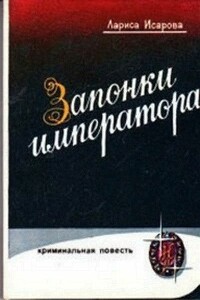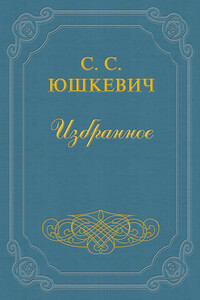Я ушел из школы сразу после литературы, я ни с кем не мог говорить. Больше всего тянуло подраться. Я шатался по улице и мечтал, чтобы на меня кто-нибудь нарвался, но меня все обходили как пьяного.
Дело совсем не в том, что все промолчали. Плевать! И не в том, как Ланщиков потом ехидничал. Он для меня пустое место. Но голос Осы, ее глаза, она всерьез от меня отказалась, без педагогических фокусов. Я вспомнил наш давний разговор о доброте, всепрощении. Разве имеет право учитель поступать так?! А если я под машину брошусь?!
Ведь говорила она всегда со мной как с равным, откровенно, так почему сегодня взбеленилась?! Может, что-то дома стряслось? Мы всегда знаем, когда Нинон-Махно ссорится с мужем, всему классу летят тройки и двойки. У Осы я такого не замечал… Подумаешь, уроки, оценки, доклад? Что от этого, революция пострадала?! Разве так воспитывают?
Рябцева советует написать на нее жалобу от имени родителей, мол, систематически унижает учеников. Но я никогда не был любителем такой словесности, да и отец скорее меня ремнем погладит, чем поддержит. А главное, Оса меня любила, я же чувствовал, может, потому и затянул с докладом, был уверен, что мне она спустит, она считала меня достаточно способным, чтоб сдавать материал зачетами, как в институте, она понимала, что мне скучно жевать по учебнику «отсюда и досюда». А тут прямо возненавидела. А за что?! Я и раньше дурака валял, учителей разыгрывал. Только посмеивалась, ей штучки мои нравились… Сама же распустила, а теперь оскорблять?!
Вот уже неделя, как я аккуратно хожу на литературу, но Оса меня в упор не воспринимает. Когда я сегодня заговорил с Митькой, она сказала:
— Дмитрий, прекратите болтовню!
Так было трижды, Митька на меня сочувственно косился, но молчал, пока я не крикнул:
— Это я с ним разговариваю, а не он…
Она сделала вид, что ничего не слышит, и продолжала урок, точно меня не было в классе.
Рябцева опять завелась, стала шептать, чтоб я пожаловался Наталье Георгиевне, что Осу надо призвать к порядку. Многие советовали попросить Кирюшу вмешаться, кончается десятый класс, у меня три двойки, как бы чего…
А я не хочу унижаться. Поставит двойку в году, не допустит к экзаменам — прекрасно, не умру. Зато теперь ей цену знаю.
В начале мая в эту историю вмешалась Ветрова. Я сидел в классе, когда она на перемене подошла к Осе, чуточку улыбаясь.
— Марина Владимировна, меня официально интересует, что у нас будет с Барсовым? Допустите вы его до экзамена или нет?
Оса нарочно долго молчала:
— Можешь утешить своего подопечного! Раз он сам не решился подойти, поговорить по-человечески… Я подарю ему на бедность тройку и допущу к экзаменам.
У меня даже уши онемели, а Антошка, которая вошла в класс, подсыпала соли в рану. Она сказала Ветровой:
— Я бы в жизни за него не просила!
— Ты плохой товарищ!
— Он трус…
Тут я не выдержал, вскочил, нагнулся над ней, я мог бы ее вместе с партой выбросить в окно.
— Я трус?!
— Да, — Антошка смотрела на меня, и глаза ее темнели и переливались. — Ты же никогда в жизни ни с кем не портил отношений, кроме меня, ты никогда никого не защищал, кто же ты?
У меня пересохло во рту, я даже губы не мог разжать, а она продолжала:
— Раньше я тебя уважала, считала сильным, а ты слабее любого, ты только наблюдаешь за жизнью, а сам не совершаешь никакие поступки, увиливаешь всегда от сложностей, разве я не права?
— Факты?
— Пожалуйста. Ты заступился за Сашку Пушкина на педсовете? За меня — на классном собрании? За Митьку, когда его отец бил?
У самой волосок к волоску прилизан, коса как корона на солнце блестит, кожа светится — и ни капли человечности!
Варька переводила взгляд с меня на нее и молчала, а потом вдруг как закричит, точно семиклассница, оборвав этот тягостный разговор.
— Ой, ребята, я совсем забыла, сегодня в буфете пончики, бежим!
Я так обрадовался ее словам, что вылетел пулей из класса и сбил Лисицына.
Я ел пончики один за другим механически и даже не понимал, кого больше ненавижу — Осу или эту, Антонину Глинскую, принципиальную особу, которая лягает лежачего… А вот Варька — друг, я так ей и сказал. Даже среди девчонок попадаются люди…