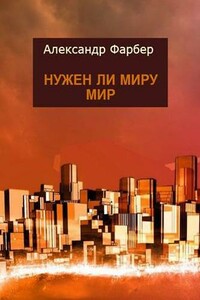Как всегда, он остался удовлетворен запахом ее влаги. И взял ее. Жестко и мерно толкая, вдвигался, держа за плечи и бедра. Нижние руки, вмявшись в кожу, оставляли рваные ссадины, всегда чуть разные и она затаивалась, дрожа, предвкушая, как в темноте будет ощупывать их, подносить к носу мокрые пальцы, дышать запахом крови. Недолго. После воды ссадины заживали прямо под руками…
Верхние руки держали ее плечи, и она больно склоняла голову – коснуться щекой шершавой чешуи… Тоже знакомо, но можно напечатать касание ближе к уху или чуть сбоку. И чувствовать потом, как горит память осязания.
Он никогда не касался лица, и она прежде, раскрывая глаза, тянулась взглядом, ощупать темноту и понять – какое? Лицо ли перед ней, морда? Клюв? Хобот? Наросты или бугристые щели? После смирилась, приняла темноту. Тем более, что испытывать наслаждение ей разрешалось, а работа глаз отвлекала и сбивала. Наслаждение – дважды, трижды, и тогда – подарки, ненужные ей. Масло для кожи в верхней воде, еды чуть больше, чем привыкла съедать. Но масло без запаха и еда без вкуса. А лучше бы – свет в промежутках мерности. Но – не было. Оставалось изменять темноту места и времени – изнутри себя, – поднимая жесткую волну к горлу, к сердцу, бьющемуся все сильнее, ко рту. И – крик, единственно разрешенное в моменты наслаждения ее. Запахи он различал плохо, но имитации наслаждения пресекались. Лучше не думать, как, не помнить.
Поймав волну в горле, она взрывалась и разрешенно билась, кричала и в крике пела старые песни, из детства, и – военные песни, и выла родными зверями, всякий раз по-новому. Смеялась. То радостью обмана и гордостью хитрости своей, то над собой, полагая, что разрешенные крики тоже ей форма поощрения.
Как всегда, вскоре после ее криков, дыхание хозяина учащалось, пластинка в горле крутилась бешено, издавая писклявые всхрипы, и он отпускал ее, замолкая даже дыханием. И она оставалась в темноте. Он еще не ушел, но тьма уже забрала его к себе, растворила, и ни разу, ни единого разу не пришла хоть одна из четырех рук – тронуть ее лицо, пропустить сквозь иссушенные чешуей жесткие пальцы прядь длинных волос…
Музыка, просыпаясь, заныла, отмечая последовательный сход со ступеней двоих. Она не видела его и не коснулась ни разу, но знала, что в ту секунду, когда пятка левой ноги оторвется от нижней ступени, снова набухнет бледностью света дверной овал. И ей уже из угла своего будет дозволено смотреть, как черный силуэт перекроет свет и неровная кисть ляжет поверх него, над головой. Повинуясь прикосновению ладони, свет запульсирует, пропуская сквозь толщу тяжелое тело. И погаснет. Через время будет вода. И – поесть. До следующего удара гонга, отмечающего новый танец.
Через время стукнуло сердце… И замерло, повиснув в пустоте, не дождавшись гонга. Черный камень молчания был страшен и больше, чем все, что последовало за ним. Еще не веря в разрушение устоев, она стояла напряженно, приготовив ногу для первого шага, и слезы катились по щекам, как всегда. Но камень молчания не разбивался, и сердцу пришлось разрешить сделать второй удар. Третий. И оно заколотилось часто-часто, обезумев одновременно с головой, в которой заметались юркие мысли, налезая друг на друга, мысли без разума.
Паника… Затекла поднятая нога, и она медленно вернула ее на прежнее место, вся сжавшись. Все изменения, шедшие от нее, грозили наказанием. Но еще большим наказанием был умерший привычный порядок.
Что – можно? Снова в угол и на корточках ждать? А как мерять время, если отмашка не дана и сердце частит? Куда мерять, в какую сторону кидать сеть надежды на жизнь? Любую жизнь. Для нее стянутую в точку темноты, влаги, еды – от Хозяина к Хозяину. Не решаясь вернуться в угол, она стояла в темноте, слушая до рези в груди, вдруг сейчас заноет, ударит, запоет, – и все двинется снова в мерность, в счастье привычки. Не пропустить бы. И пусть наказание.
Наградой за вернувшееся счастье. Или это – еще одно испытание? Тихо переминаясь на уставших ногах, она позволила прийти памяти о давнем, о среднем – полумрак в просторной комнате и нависают над ней овальные лампы, льют бледный свет на кожу и на стальные зажимы. Укутанные фигуры, что склоняются, принося темноту. И не видно глаз, лишь узкая щель между колпаком и повязкой. Не блестит из нее. А после уже нет сил смотреть. Наказание. Но сейчас – пусть бы… За спиной тихо зашуршала вода, и она закричала от ужаса. Упала на колени, дрожа, притиснула подбородок к груди. Сжатые кулаки больно мяла один о другой, соскакивая костяшками пальцев. Ждала . Виновата.