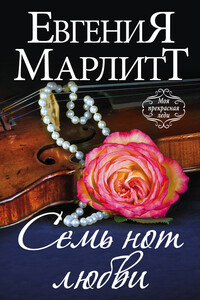— Я не имею с ними ничего общего, — ответила Фелисита, сильно покраснев.
— Допустим, но я был снисходительнее — я вспоминал о вас, и вот при каких обстоятельствах: однажды я увидел сосну, одиноко стоявшую на утесе. Казалось, ее обидели в лесу, и она убежала на пустынную скалу. Твердо и угрюмо стояла она там, а моя фантазия придала ей сходство с хорошо знакомым мне гордым человеческим лицом. Во время грозы дождь хлестал ее ветви, буря немилосердно сгибала ее, но сосна снова выпрямлялась и после каждого толчка казалась еще крепче.
Фелисита взглянула на Иоганна с испугом и робостью. Как он изменился! Человек с холодными, стальными глазами, убежденный консерватор, в котором общественные законы убили всякую искру поэзии; педант, которому пение мешало работать, рассказывал ей теперь выдуманную им притчу, смысла которой она не могла не понять.
— И подумайте, — продолжал он, — я стоял внизу в долине, а мои спутники бранили меня за то, что я остался под дождем. Они не знали, что перед рассудительным доктором предстало видение, которое не могли прогнать ни буря, ни дождь: он увидел, как один храбрец поднялся на скалу, обнял сосну и сказал: «Ты моя!» И что же случилось дальше?
— Я знаю, — перебила его девушка негодующим тоном. — Одинокая сосна осталась верной себе и употребила свое оружие.
— Даже и тогда, когда она почувствовала бы, что храбрец всю жизнь будет защищать и беречь ее как зеницу ока?
Рассказчик принимал, видимо, большое участие в судьбах действующих лиц своего рассказа. Губы его задрожали, и в голосе послышалась та мягкость, которая так поразила Фелиситу у постели больного ребенка.
— Одинокой хватило жизненного опыта, чтобы понять, что он рассказывал ей сказку, — ответила девушка твердо. — Вы сами говорили, что она устояла против бури — значит, она закалила себя и не нуждается в поддержке!
От нее не укрылось, как сильно побледнел профессор. Казалось, он хотел уйти, но в это время послышались шаги, и из-за стены тисов показалась его мать под руку с советницей.
— Ты здесь, Иоганн? Мешаешь Каролине работать и заставляешь нас ждать тебя к ужину, — проворчала госпожа Гельвиг.
Советница оставила тетку и быстро пересекла луг. Ее кроткие глаза метали молнии.
— Я еще не поблагодарила вас, Каролина, за то, что вы присмотрели за моим ребенком... — Эта фраза должна была прозвучать приветливо, но обыкновенно мягкий голос Адели стал резким: — Вы стоите под деревом, словно отшельница, и, вероятно, часто воображали себя в этой интересной роли, так как я нахожу, что уход за Анхен был очень небрежен. Она сильно загорела, и я боюсь, что ее слишком много кормили!
— Твои упреки кончились, Адель? — насмешливо спросил профессор. — Может быть, она виновата и в том, что ребенок болеет золотухой; а может быть, это она послала в Тюрингенский лес дожди, испортившие тебе настроение?
— Не продолжай, — сказала молодая вдова. — Ты не знаешь, что говоришь. Я не хотела вас обидеть, Каролина, и чтобы вы поняли, что я нисколько не сержусь на вас, я попрошу вас сегодня вечером еще посмотреть за Анхен. Я чувствую себя очень утомленной.
— Этого не будет! — твердо заявил профессор. — Время безграничного самопожертвования прошло. Ты прекрасно умеешь, Адель, пользоваться силами других, но с этих пор ты возьмешь ребенка на свое попечение!
— Хорошо, это устраивает и меня, — сказала госпожа Гельвиг. — Тогда девушка будет полоть. Я не могу требовать этого от Генриха и Фридерики, они уже стары.
Яркая краска залила лицо профессора. Как ни трудно было обыкновенно понять выражение его лица, но в эту минуту на нем ясно читались смущение и стыд. Может быть, он никогда еще не осознавал так ясно, как теперь, в какое положение поставил он молодую девушку. Фелисита немедленно покинула свое место. Она знала, что слова госпожи Гельвиг служили приказанием, которое она должна была тотчас же исполнить, если не желала навлечь на себя неприятности. Но профессор преградил ей дорогу.
— Я думаю, что тоже имею право слова как опекун, — сказал он внешне спокойно. — И я не желаю, чтобы вы выполняли такую тяжелую работу.