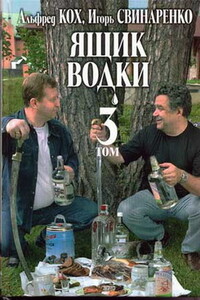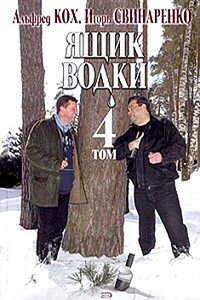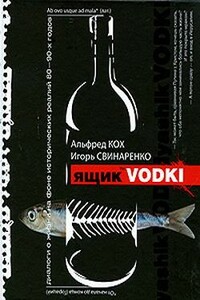Уезжали, понятно, с Белорусского.
Кого-то торжественно провожала родня и друзья. Событие же! В армию вон всякий сброд берут, кого ни попадя, и то это обставляют торжественно и пафосно, а тут — эксклюзив! Как орденом наградили!
Дорога в Германию… Отчего мы перестали путешествовать хотя бы в близкую Европу запросто, по-соседски — поездом? Плавное выскальзывание из серой совецкой жизни. Железный, глухой перестук колес. Счастливая жесткость купейных лавок. Цвета засохшей крови колбасные кругляши. Стоящая — в горле — мерзость теплой, дешевой, не из валютного магазина, водки. Тук-тук, мы едем в дальние края, какая ж это фантастическая, небывалая роскошь! И ведь запросто возможно, что это происходит не только в первый, но и в последний раз, что это всё будет после мучительно вспоминаться в каком-нибудь тихом Урюпинске или далеком снежном Магадане — весь угасающий там остаток жизни, весь-весь… Никто ж не знает — выпустят тебя еще когда-нибудь из Совка…
Мы ехали как будто в пустоту, толком не понимая, что там.
Когда взятое в дорогу бухло кончилось, шли в вагон-ресторан, затариваться. Старшая группы — партийная аспирантка Тоня — рассказывала про обычаи туземцев. Которые она знала уж всяко лучше нас — когда-то со своим мужем служила в ГСВГ, в гарнизоне. Во первых строках своего наставления она посоветовала нам не налегать на бройлеров, поскольку их кормят химией и последствия могут быть губительными для мужской жизни. Я-то думал, что Тоня начнет с тевтонских блядей. Которые стали не первым пунктом ее доклада — но вторым. Я, говорит, могу понять молодых людей, им охота переспать с веселой девкой — но как бы чего не вышло. Если не намотаете на винт, то непременно вас женят. Ну а женишься на фашистке — сразу отчисление и — та-да-дам! — армия!
Кто не служил, те насупились…
Утром началась Польша. Я смотрел на пролетающие по экрану окна крестьянские поля, с виду — как бы дачные участки. Клочки, разделенные межами, коряво и беспорядочно нарезанные. Братья-пшеки пахали свои кусочки родной земли, влача плуги за невзрачными лошадками, — чисто графья Толстые.
Последняя остановка в Польше — кажется, это была Познань. Легкая болтовня с местными, с польками, на смеси украинского с немецким, они всё понимают, это смешит меня: надо же, до чего легка эта жизнь, как близки и понятны чужие языки и народы, и чужие девки!
Познань оставлять было грустно. Это ж славяне, еще почти наши люди. А там дальше — жесткие, жестокие, хладнокровные германцы. Та земля уж совсем, всерьез чужая. Там, ребята, будет не до шуток.
После Познани — опять водка, анекдоты, курение в тамбуре. А там и Франкфурт. Не тот, который сверкающий, богатый, какой мы узнали после, — но иной, совсем другой, бедный пограничный ГДР-овский городишко. Выскакиваю из вагона на перрон, дышу растворенной в воздухе сладкой угольной пылью — сколько ее будет потом, как я не смогу ею надышаться на прощание, уезжая из Германии, казалось, навсегда, расставаясь с той жизнью, думал я, навек!
Стою, осматриваюсь… Вот по перрону по-хозяйски идет некто в темно-синем мундире — небось, железнодорожник! Скорей, конечно, переодетый, все же знают о мосфильмовских павильонах для киносъемок про дальние страны, поскольку не бывает же так, чтоб человек запросто сел и поехал себе за границу, в Европу… Я всё еще не готов был поверить в то, что чудо таки случилось, и потому не мог заговорить с человеком в синем мундире иначе как по-русски, на его, я был уверен, родном языке! И вот я его спросил про что-то. Он слушает — и смотрит на меня недовольно, и что-то бурчит в ответ, неразборчиво, но с прононсом совершенно определенно не нашим. Опять-таки легчайший запах сгоревшего угля, настолько не наш! У нас он густой, дымный, удушливый, тяжеловесный, угрюмый, — а тут он вон как бодрит. Похоже, дело было в том, что у нас уголь настоящий, черный, каменный, а у них — всего лишь бурый.
Это Франкфурт-на-Одере — там, я знал откуда-то, был после войны перевалочный пункт для немцев, которых из русского плена везли nach Haus… Их выпустили на родину, домой, почти всех, кто остался жив. Это не оставляло меня равнодушным. В природе же должно быть что-то типа равновесия, нет? И вдруг его нет. Вот как теперь? Пришли к нам с мечом, но от меча не погибли, а поехали до дому, до хаты? А мой дед — зарыт под Сталинградом… Кости его давно истлели.