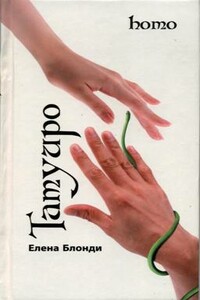— Эй-эй! Ты свесил голову, как ночная сова, где твои уши, мастер?
Она смеялась. Над ним. И Акут ответно оскалился в шутку:
— А ты болтаешь, как глупый лесной птичик, которому оторвали голову, а он и не заметил!
— Фу, гадости говоришь! Зачем так про птичика? Жалко его…
— Птичика? — Акут рассмеялся. — Зачем жалеть птичика, он не человек.
— Ну и что? Он маленький, — Найя нахмурилась, внимательно глядя на мастера. Увидела, что тот посмурнел в ответ, следя с недоумением за её лицом, и снова улыбнулась, — давай есть, я есть хочу.
В миске пузыри поднимались, расталкивая стебли, и наливались малиновым жаром. Акут пошевелил варево деревянной палочкой:
— Видишь? Вот новый цвет, ты его не знаешь!
Найя посмотрела на булькающую поверхность.
— Знаю! Такой был камушек у вождя, помнишь? За которым прыгнул Мерути.
— Да будут дни отца нашего светлыми и ночи полными сна, — проговорил Акут, кивнув.
— Вот и камушек тот, — Найя подставила свою миску и говорила, глядя, как мастер, подцепив палочками длинные стебли, кладет ей еду, — он был не просто круглый. Граненый, как… как цветок. Снизу граненый, а наверх кругленький. И оправа лапками держит. Кто его делал, Акут? Ты? А чем?
— Не я. Это — Вещь. У вождя их много, он ведь вождь.
— Не понимаю.
— Ешь. Огонь делал тебе еду, ешь.
— Остынет, будет невкусно, — задумчиво сказала Найя, как мама говорила ей в детстве. Подхватила палочками стебли и отправила в рот. Прожевав, сказала:
— Ты мне расскажешь, да? О Вещах.
— Ешь. Расскажу. Потом.
— Ты мне всё расскажешь? Все, что знаешь сам?
— Всё расскажу.
— Точно?
— Как ты сказала?
— Неважно. Потом так потом.
Оторвала кусочек горячего стебля и зашипела, подзывая мышелова. Тот прыгнул сверху, с перекладины, и завертелся, изгибаясь, топорща усы и жмуря жёлтые глаза. Конец пушистого хвоста мелькал, сверкая в сумраке хижины, как болотный огонёк.
— Вот мышелов. Это же кот. И не совсем кот. У наших котов глаза не такие. И уши острые. А хвост — без кисточки. Или с кисточкой?
Найя отдала мышелову ещё кусочек и положила палочки в миску, которую держала на коленях. Лицо её стало серьезным.
— Акут. Я забываю, как было там. В моей прежней жизни. Я помню, что было, но какое оно было, я забываю!
— Ты говоришь непонятно.
— Знаю. Ну и что. Зато я говорю много и потому быстро учусь. Но я не хочу забывать! Акут, мне нужна… бумага! Или плоские листья, большие. Как те, что на крыше!
— Зачем?
— Я буду писать на них. Рисовать свою прежнюю жизнь.
— Рисуй на циновках.
— Ты унесёшь их женщинам!
Он пожал плечами, собирая стебли с краев миски.
— Ты поела? Хочешь ещё?
— Нет! — она поставила миску на пол. Встала на колени и заговорила, сжимая кулаки:
— А тебе наплевать, да? Ты меня кормишь и лечишь. И чтоб было тепло спать. А мне надо ещё, другое! Я пришла сюда и, и… Я не знаю, что будет дальше!
Мастер доел, отложил палочки и, поднеся к лицу, вылизал миску. Сказал, обтирая щёки ладонью:
— Ты глупая, как все женщины. У вас всё вот тут, — он прижал руку к груди, — и ещё вот тут, — рука опустилась ниже.
— Ты!
— Молчи! Твое странное сердце бьётся, и стук его идёт сюда, — он прикоснулся смуглым пальцем ко лбу, — но там мало места. Ты живёшь, и вокруг тебя — жизнь. Зачем тебе другая? Она осталась там. Ты не хочешь туда. Зачем держать её тут и здесь? — он показывал пальцем на лоб и снова на сердце.
— У меня тут, — Найя поднесла ко лбу свой палец и уперла его так, что он согнулся, — хватит места на две жизни. И ещё на две!
Акут смотрел, как она стоит за очагом на коленках, из-под короткого подола домашней простой тайки светятся голые ноги. И палец прижат к середине лба, а по бокам два серьёзных глаза — на него. Губы сжаты. На щеке размазан сок от еды. Светлые волосы забраны в два жгута с вплетенными вьюнками. Такая красивая.
Он кивнул.
— Ты Найя, несущая свет. Не такая, как другие женщины, и я верю, ты говоришь из головы, а не только из сердца. Поживи тихо, Айна высушит лес, и деревья дадут новые листья.
— А вдруг я все забуду?
— Ты не должна бояться.
— Ну… Ладно. Хорошо… Я сыта, мне тепло, и твой гребень помог мне красиво расчесать волосы. Теперь я хочу быть одна.