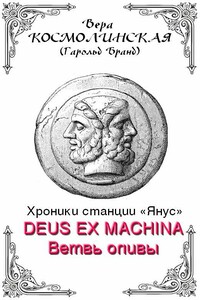Анатольевич сидел за столом и тупо играл в «косынку».
– Что-нибудь надо? – лениво спросил он, отворачивая к стене экран монитора.
– Пойду-ка я, барин, домой.
– Ты, случаем, не охренел? – беззлобно взбух «участковый», – на часах половина одиннадцатого! Зачем тебе, что-то случилось?
– Пока ничего. Просто врач-диетолог сказал, что к двенадцати часам я должен успеть пообедать, выпить две чашки кофе и часик вздремнуть.
Старший мастер надел очки:
– Ты знаешь, мне пофиг, что там тебе вещает врач-диетолог.
– Ну, вы как сговорились! – Я положил на стол связку ключей. – Он точно так же сказал: «Мне пофиг, что там тебе вещает старший мастер участка».
Алексей Анатольевич хрюкнул и тоненько захихикал.
– Ладно, сгинь. До утра свободен. Возьми с собой кисточку и баночку с чёрной краской. Если кто-нибудь спросит на проходной, скажи, идёшь на линию от ТП-37 опоры нумеровать.
Я всегда торопился домой, если не успевал приготовить обед с вечера. Но тогда просквозил мимо магазина, хотя точно знал, что хлеба в доме ни крошки. А от железнодорожной насыпи и вовсе бежал.
Мамка лежала на покрывале, запрокинув седую голову. В широко раскрытых глазах погас внутренний свет. На измождённом лице застыла печать безумия и пережитого ужаса. Надеясь на чудо, я несколько раз окликнул её. Потом присел на кровать, закрыл родные глаза и поплёлся в депо. Там был телефон с выходом в город.
Бывший следак меня почему-то не опознал. Обратился на «вы»:
– Прекратите прикалываться! Что я, не знаю голос родного брата?!
Только с третьего раза он наконец-то поверил.
Вернувшись домой, я долго смотрел в зеркало, надеясь поймать мамкино отражение, чтобы в последний раз признаться в любви и сказать, как трудно мне будет без неё жить. Слёз не было. Вместо меня заплакало небо.
Нет иного исхода.
Даже слово рождается в муке.
Даже вечной Надежде
Не вырвать у смерти ничью.
Из могильного холода
Протяни материнские руки
И погладь, как и прежде,
Непокорный, седеющий чуб.
Время больше не лечит.
В зеркалах отраженье забыто.
Сокрушённо вздымает
Ветки чёрные грецкий орех.
И живёт человечество,
Разбавляя события бытом,
Не всегда понимая,
Что жизнь без любви – это грех.
За калиткой Фрол повернул направо и медленно зашагал вдоль внешней ограды к ближайшей посадке, смутно темневшей за дальней межой огородов. Наверное, здесь когда-то было подворье, стояла чья-нибудь хата. А где, теперь и не угадать. Всё заросло крапивой и колючим кустарником. Сад со временем захирел. Только могучая груша возвышалась над бросовыми деревьями, как изодранный в клочья парус, потерпевшей бедствие баркентины.
Там, где мы шли, тропинка была натоптана. Наверное, по ней колдун часто ходил. Я видел его сутулую спину, мерно взлетающий посох из ствола конопли в полтора его роста, а память непрошено возвращалась к самому чёрному дню моей непутёвой жизни.
За посадкой зарастала бурьяном бывшая станичная площадь. Небо на горизонте постепенно стало сереть. Из неясного тёмного фона всё явственней стали проступать развалины Богородицкой церкви – две стены с осыпающимися во все стороны боковинами. Фрол, действительно, шёл по своей крови.
Тропинка всё больше петляла. Под босые ступни стали попадаться осколки битого кирпича, а слева и справа, за кустами терновника, угадывались части колонн и куски перекрытий разбитого храма. За пологим пригорком, чуть дальше раздвинувшим горизонт, стены стали казаться выше. Открылся неширокий арочный вход и два, точно таких же по форме, окна, забранные ажурной решёткой. Местами кирпич раскрошился, а в самом верху и вовсе казался неопрятной рыжей щетиной.
Здесь наша процессия остановилась. Бабушка Катя поставила рядом со мной хозяйственную сумку и вышла вперёд с караваем станичного хлеба и хрустальной солонкой на расшитом огнивцом рушнике. Перед тем как пройти в притвор, старики сотворили синхронный земной поклон.
– Ом-м-м, – зазвучало внутри под светлеющими небесными сводами.
От намоленных стен в испуге отпрянула приткнувшаяся здесь на ночлег стая ворон. Хлопая крыльями, устремилась в сторону кладбища. Боясь пропустить что-нибудь важное, я тоже, как умел, поклонился. Потом подхватил тяжёлую сумку и с замирающим сердцем пересёк Рубикон.