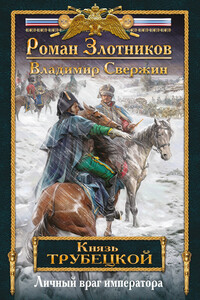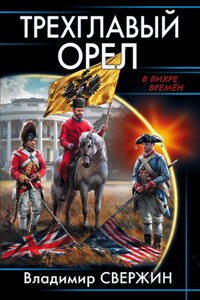Был, пребываю и остаюсь искренне преданный вашей светлости
Симеон Гаврас, герцог де Сантодоро.
— Песок, — скомандовал ромей и, подождав, когда высохнут чернила, опечатал свиток черным воском. — Пошли слугу к Адельгейде Саксонской, но помни о нашем пари.
Он бросил на стол несколько золотых монет.
— Мой господин, я всегда к вашим услугам.
— И вот еще. Видишь, слуги держат коня?
— Да, о блистательный дука. Прекрасный неаполитанский жеребец.
— Прекрасный… Пожалуй, всего твоего золота не хватит, чтобы купить такого.
— Быть может, — согласился ювелир. — Но к чему мне такой конь?
— Тебе — ни к чему. Пусть его также отведут ко двору Лотаря Саксонского, и пусть твой слуга передаст, что я больше не смогу сесть на этого коня, ибо он был причиной нашего столь неудачного знакомства.
— Вы хотите отдать такого коня?! — поразился золотых дел мастер.
— Я не хочу отдать коня, я отдаю его, — отрезал Гаврас.
— Почему же вам не отправить коня с кем-то из своих людей?
— Мужлан! Это будет воспринято как признание мною вины и страх перед возмездием. Я же хочу лишь загладить неловкость. А теперь пошевеливайся. Ты знаешь, где меня искать?
— Да, мой господин.
— Тогда жду тебя с сообщением.
— Помчу, будто к ногам моим приделаны крылья.
Симеон Гаврас молча кивнул и жестом велел слуге подвести другого скакуна.
Время пожирало жизнь час за часом с тупой методичностью, как старый мерин — овес из сумы. Симеон Гаврас ходил по комнате, явственно чувствуя, как не хватает ему воздуха. От мощных каменных стен тянуло сыростью. Он вспоминал дворец отца, откуда было видно море, и даже в самое ненастье, когда ветер беспощадно обрушивал вспененные яростные волны на скалы, из окон дворца мир представлялся куда более совершенным, нежели сквозь узкие бойницы этого многобашенного чудовища.
Симеон Гаврас ходил по комнате, пытаясь унять волнение. Недавний разговор с Никотеей впивался в его сознание злее, чем аланские стрелы в живую плоть.
«Разве может быть она столь безжалостной? Разве такое возможно? Совсем недавно я видел ее хрупкой, беззащитной — там, у нас в Херсонесе. И потом, в Киеве, и по дороге к этому проклятому колдовскому озеру. Что же изменилось с той поры? Или впрямь она жестока и бессердечна, как все Комнины? Она говорит, что любит меня, и без всякого сожаления приносит в жертву своего мужа и дядю-василевса. Как знать, не стану ли я третьим в этом списке? Неужели был прав отец, утверждая, что только власть, только достижение поставленной цели имеет значение, а все остальное — прах и пустая болтовня? Нет, не может быть. Конечно же, я ее неправильно понял. Муж… А что муж? Она никогда его не любила. А дядя упек ее мать в монастырь, да и Никотею держал там несколько лет. Нет, она не злодейка, она лишь пытается спастись, и я для нее сейчас — соломинка, за которую хватается утопающий. Разве я могу подвести любимую? Даже если предположения, на горе мне, верны, разве это убивает любовь?»
Гаврас сжал ладонями виски.
«Нет, я точно чего-то не понимаю и чего-то не знаю. Я должен делать так, как велит она. Я представить не могу, каких терзаний стоят Никотее решения, о которых она мне поведала».
В дверь тихо постучали, и слуга, с порога определив настроение господина, коротко известил:
— К вам гость.
— Кто, ювелир?
— Нет, монсеньор. Барон ди Гуеско.
Анджело Майорано уже входил в комнату, не дожидаясь разрешения.
— А, это ты… — Гаврас измученно поглядел на соратника.
Тот изогнулся в поклоне.
— Хорошо, что ты пришел. Мне надо посоветоваться.
— Это и впрямь очень удачно, потому что, когда я уеду, вам, мой друг, будет сложно завязать со мной беседу.
— Ты уезжаешь? Куда же?
— Во Францию. Исполнять порученное Его Святейшеством.
— Но ты ведь говорил… — удивляясь, поднял брови Гаврас.
— Говорил, — подтвердил Майорано. — Как обычно — чистую правду. Но дело в том, что когда в подобные игры начинает играть ваша милая родственница, обстоятельства порою меняются очень быстро, а слова «правда» и «ложь» перестают что-либо значить.
— Ты хочешь сказать — Никотея посылает тебя во Францию?
— Должно быть, небу угодно, чтобы я все-таки посетил этот край. А прелестная севаста по мере сил способствует воле небес… Когда б я был ваятелем, как те древние, я бы почел за честь наградить ее чертами языческую Венеру. Надели меня Господь талантом управляться с рифмами, как с мечом, — мучил бы окружающих стихами, повествуя о ее красе. Если бы владел кистью более, чем нужно для покраски корабельного борта, — непременно бы придал ее черты Мадонне… Но я всего лишь грубый вояка. И как вояка говорю вам, мой герцог: только в делах постельных к этой женщине следует держаться поближе. Во всех остальных будьте от нее подальше.