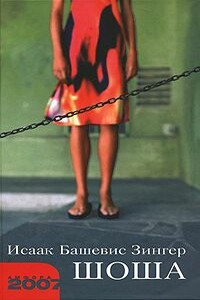Хоть Адель и была старой девой, ее приглашали на свадьбы, обрезания и помолвки. У нее было много родственников в Люблине и в Варшаве. Она всегда носила им подарки, и из-за каждого подарка устраивала страшную суету. Всякая безделушка должна была быть такой, а не этакой и подходить к случаю.
С тех пор как я впервые встретилась с ней, я все время слышала от нее одно и то же: «Мне нужно идти на примерку». Нынче это накидка, в другой раз — юбка, а в следующий раз — жакетка или блузка. Ей вечно нужно было спешить к сапожникам, модисткам, скорнякам и портнихам. Все должно было быть под стать. Если платье зеленое, нужны зеленые туфли и зеленая шляпа. На шляпе должно быть зеленое перо, и зонтик должен быть зеленым. Кто еще в Люблине хлопотал о таком вздоре. Разве что дамы из поместья или жена губернатора.
А обойдешься ли одной примеркой? Тут у нее — лишняя складка, там — вставка кривая. Она выписывала журналы мод из Парижа со всеми новыми фасонами. Обычно моды сперва доходили до Варшавы, а потом примерно через год — до Люблина. Но раз уж Адель получала журналы прямо из первых рук, все у нее получалось задом наперед. Едва начнут носить платья покороче, а она уже заказывает длинные. Все портные сбились с толку. Когда она выходила на Левертовский проспект, прохожие останавливались и глядели на нее, как на помешанную.
Пока были живы ее мать и отец, брачные маклеры не теряли надежды. Они устраивали встречи с мужчинами, и всякий раз для такой встречи она наряжалась, как невеста. Но ничего из этого не выходило. Когда родители умерли, брачные маклеры отступились от нее. Сколько можно бегать за этакой особой. Если девица никого не хочет, ее в конце концов оставляют в покое.
Я вышла замуж, когда мне было семнадцать. Когда ей перевалило за пятьдесят, у меня уже были взрослые дети. В тридцать шесть лет я стала бабушкой. У нас была галантерейная лавка. Мы продавали мерный лоскут, подкладку, холст, украшения и пуговицы. Наша лавка была в ее доме, и она всегда что-нибудь выискивала: пуговицу, ленту, кружева, бусы. Она простаивала в лавке часами — что-то щупала и разглядывала. Мой муж, упокой, Господи, его душу, был по природе гневливый мужчина. Он не терпел ее. «Что она ищет? — спрашивал он. — Прошлогодний снег? Для кого она наряжается? Для ангела смерти?» Он сам не знал, насколько был прав. Она приходила и задавала мне вопросы, как будто я понимаю в таких вещах. «Можно ли носить зеленую шаль поверх коричневой накидки? Как одеться на праздник по поводу рождения первенца?» Вы, молодые, не знаете, но в то время моды были совсем другими: ротонды, узкие длинные юбки с перехватом внизу и еще сама не помню что. Вам небось кажется, что в прежние времена люди ходили в убогой одежде. Вовсе нет. Тот, кто мог себе позволить, разряжался в пух и прах. Но Адель, Боже сохрани, дошла до умопомешательства. У нее было около пятидесяти кринолинов. Все ее шкафы были забиты. Еще она любила мебель и антикварные вещицы. Родители оставили ей вдоволь безделушек, но чуть ли не каждую неделю она покупала еще какую-нибудь безделицу: сперва такое зеркало, потом этакое, стул на прямых ножках, стул на гнутых ножках.
Она не раздаривала своих старых вещей. Нет, она искала, кому бы их продать. Когда вы что-нибудь покупаете, торговец ждет от вас хороших денег. Но когда вы продаете те же вещи, покупатель старается взять их за бесценок. Ее обманывали и грабили. Я уже говорила, она совсем высохла — кожа да кости. Ей просто некогда было есть. У нее была кухня и посуда не хуже царской, но она редко что-нибудь стряпала. В прежние годы у нее была служанка. Теперь она отпустила служанку, потому что все деньги уходили на баловство. По тем временам полнота считалась красивой. Даже тучные женщины носили накладки на бедрах и турнюры, чтобы казаться круглее. Корсеты надевали, лишь отправляясь за границу. Адель каждое утро надевала корсет так же непременно, как благочестивый еврей — свой талес. Такой сморщенной и тощей, как она, корсет был нужен, как дырка в голове, и все же она не смела ступить за порог без корсета, как будто кто-нибудь мог заметить, есть он на ней или нет. Всем наплевать. Ходи хоть нагишом. Ее сестры были уже бабушками и прабабушками. Адель и сама могла бы к этому времени быть бабушкой. И все равно, моя дверь открывалась, входила Адель, черная как уголь — щеки ввалились, под глазами мешки, — и говорила: «Лея Гиттель, я еду на воды, и мне нечего надеть».