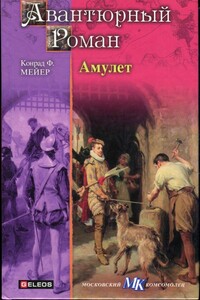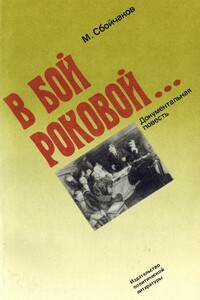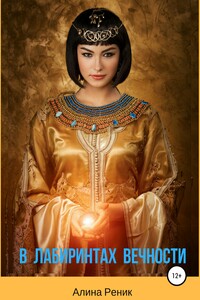– Меня утешает, – произнес он спустя некоторое время, – что ты вот сидишь здесь, передо мною, как благочестивый и почтенный человек; воистину ты умеешь ладить с людьми, раз сам король, ухватясь за твой пояс, все же не увлек и тебя в своем падении!
Арбалетчик с горящими глазами выпрямился на своей скамье. Своим рассказом он облегчил себе душу, как исповедью, и придал бодрости всему телу, ибо, несмотря на седины арбалетчика, его мужественное сердце было способно переносить суровые приговоры правосудия, сокрытого в самих недрах людских деяний.
– И я не избежал ударов, – сказал он. – Однако я вовремя сумел удалиться, не упустив к тому же случая прибегнуть к душецелительным средствам. Я хочу вам еще рассказать вкратце и об этом, а также как я сделался тем, что я есть. Лошади бегут быстрее, почуя близость конюшни.
Когда после того бичевания, я, вслед за сиром Генрихом, возвращался верхом в Виндзорский замок, для меня стало несомненным одно, – что моя королевская служба подходит к концу. Со времени смерти примаса я сделался источником раздражения для моего короля, и он в гневных, несправедливых словах упрекал меня в моем бессилии вырвать святого из рук его убийц. Где бы я ни попадался ему на глаза, он отворачивался от меня. Стройный паж знатного аквитанского рода сменил меня, бородатого, в должности виночерпия; на охоту я сопровождал короля только изредка; да и в тот раз, едучи на свое покаяние в Кентербери, он взял меня с собой лишь потому, что ему нечего было передо мною стесняться.
В Виндзорском замке оружничий, господин Ролло, учинил мне допрос; ведь молва о самобичевании короля разнеслась и бродила среди саксов, переходя из уст в уста и служа источником и назидания и злорадства. Когда он услышал позорную правду, на лбу у него угрожающе вздулась гневная темная жила, и он, на свой лад, в дерзких словах, облегчил себе душу.
– Он приполз к его гробнице и поклонился этому трусу! Вот-то должен был захихикать тот, бледноликий, в своей норе!.. А то, что он даже из-под земли еще ужалил короля, – это достойно змеи!.. Битый плетью норманский король!.. Впрочем, тут нечего удивляться! Заметил ты, Ганс, что у короля Генриха давно уже на плечах поповская голова?
Тут господин Ролло сказал правду. Лицо моего короля было неузнаваемо, изможденное и обвислое; взамен радостного сияния былых времен, от него теперь исходил лишь тусклый, бледный свет, как от гнилого дерева в ночи.
– Английский воздух стал для меня зловонным, – гневался сэр Ролло, – я уеду отсюда на огнедышащий остров Сицилию, где у меня есть племянник. Ганс, возьми уголек из очага, – мы находились в оружейной, – и напиши за меня тут на стене прощальный привет, чтобы мне не служить больше битому королю! – Я знал, что благородный рыцарь несведущ в письме, и, по мере своих сил, выразил его мысль латинским изречением, оборотом которого он остался доволен и которое гласило:
Ego – Norraannus Rollo – valedico regi Henrico. [Я, норманн Ролло, говорю прощай королю Генриху (лат.).]
Но раньше чем пустить в дело уголек, я заметил:
– Нам с вами по пути, сеньор!
– Как, ты уходишь, лучник? Королю будет недоставать тебя! – бросил он и наморщил лоб.
Я указал ему на мою шею – она была вся в синяках от душивших меня пальцев – и сказал:
– Вот уже третий раз я оказываюсь вестником несчастья для короля Генриха, и можно ли удивляться, что ворон стал ему ненавистен? Моя служба не принесет королю больше счастья. Зачем же мне возбуждать его гнев? Я хочу уйти, прежде чем он в недобрую минуту запустит в меня копьем, как царь Саул. Но то, что вы, рыцарь, оставляете его, вы, которого он ценит и которым дорожит, как старейшим свидетелем и воплощением норманской славы, – это должно его напугать и омрачить, как злое предзнаменование!
Тут оружничий выхватил цельный еще уголек из моей руки, бросил его в очаг и, мрачно ворча, повернулся ко мне спиной.
В тот же день я предстал перед государем и попросил о расчете, – на сердце у меня было еще тяжелее, чем в первый день моей королевской службы, когда я показывал королю в той же самой палате усовершенствованный арбалет. Король взглянул на меня без враждебности, но с отчужденностью и печалью во взоре и милостиво отпустил меня. Богатым человеком я не стал от того, но честно заслуженное мною было, по приказанию сира Генриха, выплачено его казначеем.