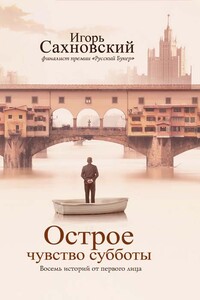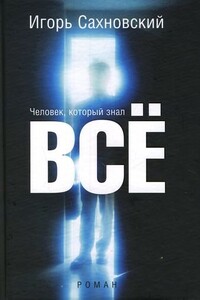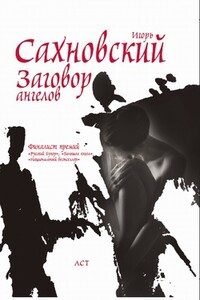Ему мерещились в происходящем признаки дурного детектива, а всякая минута задержки угрожала бессрочным поселением в Нижнем Магиле.
…И такой прекрасной свободой дышалось в декабрьской стуже отпущенному восвояси, когда он бежал по перрону, запрыгивал в пахнущий горячим углем вагон, жадно приникал к окну – словно только что не вырывался из объятий этой кромешной станции… И теперь можно было свободно спать, вытянув руку на приоконном столике, уйдя лицом в предплечье. И занемевшую правую руку сменить на левую, не обрывая сна, в котором ночь приходила в себя, потерянные осколки разбитого целого сами встречали друг друга, никто не погиб, мать была нежной, всепрощающей, и одноногий старик тихо глядел виноградными, отмытыми от горя глазами с рыжеватыми прожилками. Дорожный сон упростил мироздание, деля его на две части света, две крайние стихии – недвижно стынущую на месте и летящую, распалённую скоростью, – на вокзал и поезд. События всей жизни, зашоренной и взнузданной, закрученной и сорванной с резьбы, в конечном счёте сводились к выбору между станциями и пассажирскими составами. Лишь они блестели огнями в этой зимней темени… И меня уже выбрал тот транзитный скорый, на котором под диктовку любви и печали предстояло одолевать пространство и время огромной страны, чтобы ворваться на полном ходу в дальний приморский город, где всё было озаглавлено многодневным риском ожидания, где тайфунам давали женские имена, где свора нетерпеливых женихов кичилась жалкими мужскими доблестями, где просоленный воздух внятно говорил от имени великого океана, где, наконец, меня точно ждали. По детской привычке я зажмурился – среди бессчётных мерцающих существ, видимых только под закрытыми веками, каждое нуждалось в праве на свою таинственную жизнь и прибегало к моей защите. И теперь уже не Роза мне, а я сам спокойно повторял: «Не бойся, ничего не бойся», зная наверняка, что меня слышат.