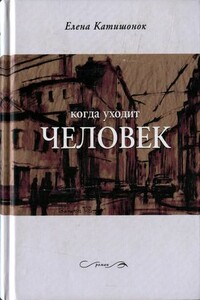Тайна перестала быть тайной в сороковом году, когда списки попали в НКВД.
Каким образом дед избежал расстрела или, в лучшем случае, тюрьмы и лагеря, Лариса не знала. Однако не избежал страха – и жил всю оставшуюся жизнь под страхом, что когда-нибудь это должно случиться, за ним придут. Движимый страхом, новую власть принял до неприличия пылко и приветствовал национализацию хуторов (включая собственный), шквалом прошедшую по деревням в сороковом году. Соседи пребывали в недоумении от нового способа хозяйствования, который так плачевно сказался на результатах, что в декабре власти торопливо денационализировали отнятое в июле…
Лариса с Германом и маленьким Карлушкой в то время ехали в ссылку, и только шестнадцать лет спустя, когда они вернулись, мать рассказала ей о происходивших событиях. Сопереживания не встретила, да и чему было сопереживать, страху? О сибирской жизни Лариса говорила родителям мало и редко. Они с Германом жили далеко, трудно и можно было бы подумать, что в совсем другой истории, не находись они тоже под неусыпным контролем НКВД.
Громко хлопнула входная дверь: пришли Дорофеевы, новые соседи. Молодая пара, они жили здесь не меньше пяти лет, но все еще считались «новыми». Дорофеевы вселились в комнату Праскудина, который с тех пор стал называться «старым» соседом, хотя старым он как раз не был, подтвердив это тем, что съехал не просто так, а «по причине вступления в брак», как он сам выразился. Нет, ни на одной из девушек, которые иногда приходили вместе с ним, а поздно вечером исчезали – ни на одной из них, похожих друг на друга и на самого Праскудина, он не женился. Избранницей соседа оказалась яркая рыжеволосая особа лет сорока, с красными губами и такого же цвета длинными ногтями. Пышно взбитые волосы и «шпильки» делали ее выше Праскудина. Вся она была какая-то вытянутая, с длинными ногами и руками, а в тонких длинных пальцах держала сигарету в длинном мундштуке. Когда Праскудин привел ее в первый раз, она долго осматривалась в прихожей, громко и протяжно о чем-то спрашивая. Мария Антоновна, по своему обычаю, прошествовала в туалет и вышла с деревянным кругом под мышкой; гостью это удивило и позабавило, и она спросила, растягивая слова: «Вале-е-ера, а унитаз она то-о-о-же унесет?».
Карлу, вынужденно торчавшему в прихожей у телефона, сцена запомнилась. Мария Антоновна, потрясенная этими «Вале-е-ера» и «она», плакала у кухонного окна, а потом объявила, что «вычеркнула этого человека из своего сердца».
Вычеркнутый Праскудин вскоре переехал, а вместо него вселились Дорофеевы с двумя велосипедами, одержимые здоровым образом жизни.
«Все пожег», – повторяла бабка. Но что там было такого, что нужно было сжигать, и чем, собственно, прогремел «Громовой крест»?
– Да что я знаю, – смешалась Аглая. – Он мне ничего не рассказывал.
«Простил ли?» – в который раз подумал Карл.
– Потом начал бумаги жечь, – продолжала старуха.
«Потом» относилось, вероятно, к событиям тридцатилетней давности. Она, казалось, поняла и пояснила:
– Когда суд начался. По всему дому собирал книжонки, листки какие-то, чтоб только никому на глаза крест не попал.
– Какой крест-то?
– А погнутый такой. Как у немцев был.
– Свастика?..
– Ну да, как на флагах и на повязках ихних. Да я в этих делах мало что понимаю. Может, другое что было. Да ты ешь, сынок, ешь, ты же с работы!
Было о чем задуматься.
Как мало он знал о жизни деда! Сидел рядом с ним в больничном коридоре, курил, выслушивал то, что принимал за бред возбужденного старческого воображения, не задавая, по лености воображения собственного, никаких вопросов, а ведь старик наверняка их ждал. И ведь хотел спросить, а теперь… Теперь ему об этом даже не скажешь.
Никаким психозом дед не страдал – его мучил многолетний страх, но об этом Карл узнал от матери. Может быть, бабка рассказала бы больше, но не успела.
Точное слово выбрал отец: странно. Ибо никаким другим не передать состояние души, когда видишь, что несколько дней назад человек лежал на больничной кровати, тянул пожелтевшую руку к стакану, шевелил губами, что означало «спасибо», «да» или «нет», все более