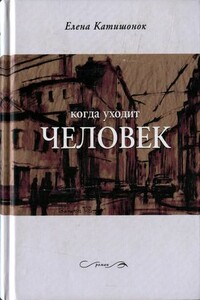Куда девались бабкины агрессивность и яростная ненависть? Карлу показалось: ушли вместе с дедом. С похорон вернулась усталая равнодушная старуха, и когда она сняла черный платок, он впервые заметил белую ровную борозду на месте пробора – седые корни русых и пышных, как у матери, волос. Понял, что бабка давно красит волосы, и догадался обостренным каким-то чутьем о причине многолетней злобы и ядовитых скандалов.
Она ревновала – беспощадно, дико, изнурительно ревновала семидесятипятилетнего старика. Ревновала – и вызывала ответное чувство такой же уродливой силы. Оба не могли жить без этого, как не могли жить друг без друга. Должно быть, началось это гораздо раньше, когда оба были молоды, и только так можно было объяснить вечный накал между ними. Это было не смешно, но страшно – особенно теперь, когда бабка осталась одна.
Снова подумал: простил? Не простил?
Не мог вспомнить, плакала бабка на кладбище или нет. Когда приехали на хутор, старуха подошла к табличке и медленно провела ладонью по буквам «У озера».
В этот момент он сам чуть не заплакал.
Не заплакал – ни тогда, ни четыре месяца спустя, когда она умерла. Карл очень боялся за мать, особенно после так напугавшего его «Парижа». Но, как ни странно, Лариса перенесла вторую смерть легче, чем можно было ожидать.
– Папа говорил, – и Карлушка не сразу понял, что она имеет в виду Германа, – я помню. Мы возвращались с хутора, сидели в вагоне, и он меня успокаивал: «Пока они вместе, они будут скандалить, иначе не умеют. Главное, что они вместе». С тех пор я боялась, как же будет, когда один из них… А теперь вот…
Остановилась и полезла в карман за платком.
– Мне кажется, теперь я понимаю, что он хотел сказать.
Лариса повернула к сыну заплаканное лицо, но слез больше не было.
– В тот самый день, – продолжала медленно, – повернулся ко мне – он галстук завязывал – и произнес: «Как странно, правда?». Но что «странно», не сказал – не успел.
Помолчав, добавила:
– Теперь я понимаю.
Можно было не пояснять.
Смерть резко обостряет восприятие, потому что наглядно и беспощадно демонстрирует, как настоящее становится прошлым. Отец это почувствовал за секунды до смерти и нашел единственное слово: «странно». Сколько Карлушка ни пытался подобрать другое, ничего не получалось.
Странно, правда?
Что-то со звоном упало в ванной. Наверное, таз: Мария Антуанетта затеяла стирку на ночь глядя. Оно и понятно: никто не помешает. Сейчас лучше не выходить: начнет жаловаться, что «годы не те», ему неудобно будет не дослушать до конца, а конца этим жалобам не предвидится.
Аглая, давно жаловавшаяся на боли в боку, выучила трудное название своей болезни и не без кокетства уверяла, что «этот холецистит» сведет ее в могилу. Путь оказался таким коротким, что никто не успел развеять ее заблуждение и свалить вину на рак поджелудочной.
Еще не зная о куцем отпущенном времени, она продолжала доживать потерявшую смысл жизнь: варила кофе, который доктора запретили ей пить, сортировала яблоки, которые есть больше не могла, и собирала черную рябину, уродившуюся в огромном количестве. Быстро уставала и возвращалась в пустой дом. Лариса с Карлом по очереди ездили туда, чтобы не оставлять ее в одиночестве.
Одиночества Аглая боялась: «Придут, будут спрашивать». Кто мог прийти и о чем стал бы спрашивать, не говорила. Воры? Но воры не спрашивают…
– Какие там воры, – раздраженно отмахивалась она, – другие придут.
Для Карла все это было продолжением абсурда, филиалом Аптекарской улицы, пока бабка не упомянула вдруг «Громовой крест». Карл чуть не поперхнулся чаем: он, признаться, подзабыл об этом «кресте», и стал внимательно прислушиваться.
– Придут, вот увидишь. Только ничего не найдут: он все пожег тогда, все бумажки. И на чердаке нету, ты не думай. Хлам один, ничего там нету. Все пожег, все.
То же самое говорилось Ларисе.
На фоне всего услышанного мифический Париж растаял, как и страх перед ним. Мать рассказала Карлу то немногое, что знала сама.
Нет, дед не бредил, говоря о «тайных списках». Он состоял в рядах «Громового креста», но был рядовым членом и под суд не попал. Чем занималась эта организация, Лариса не знала («я никогда не интересовалась политикой»). «Громовой крест» был запрещен; организаторы то ли сели в тюрьму, то ли были высланы за границу. Процесс был громким, и когда он окончился, «Громовой крест» продолжал существовать, теперь уже подпольно, и сколько насчитывал членов и кандидатов в члены, известно не было. Ореол тайны вокруг имен, вкупе со зловещим названием, придавал «Кресту» популярность. О «секретных списках» говорили с оглядкой и вполголоса (Карлу не составляло труда представить это – перед глазами стоял дед).