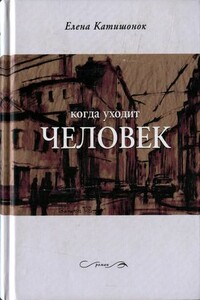Никакого венка.
Так она что, рыбу на плече таскала?! Нет: было бы «вьюна».
Лучше бы не проверяла, разочарованно подумала, ставя на полку словарь. Почему-то стало жалко Дану Марисовну: наверное, так часто спрашивают, что она сама придумала ответ. Или словарь ошибается?
От вокзала шла по Гоголевской – здесь длиннее, особенно если пройти через сквер. «Со вьюном я хожу…» В сквере лежал мокрый снег, и ногам стало холодно. В этот году весна какая-то ленивая – долго разгоняется.
Оставалось три квартала: два коротких, один длинный. Как звонок в общей квартире. В третьем от угла доме – хорошо знакомое окошко на первом этаже. На подоконнике здесь всегда стоят горшки с цветами, как у бабушки, а самый толстый, колючий столетник, обвязан какой-то пестрой тряпочкой, чтобы стебли не ломались от тяжести. Олька привыкла к этому по-старушечьи обвязанному колючему цветку, к его соседям в разнокалиберных горшках (бабушка называет их плошками) и к простенькой занавеске, присборенной и зажатой бельевой прищепкой. Скоро весна, и окошко часто будет стоять открытым.
Сейчас что-то изменилось – или она перепутала дом? Нет, дом тот же – изменилось окно. Ничего удивительного, что она не узнала: больше не было ни занавески с прищепкой, ни цветочных горшков; стекло было заляпано мелом. В комнате горел неяркий свет и было пусто, если не считать стремянки, она стояла в центре.
Обыкновенный ремонт; ничего особенного. Цветы куда-то перенесли. Ничего не случилось.
Олька вдруг почувствовала, что замерзла.
Длинный квартал оказался недостаточно длинным: вот и пустырь, а рядом дом, где на стенках ничего не написано. И не потому что слов таких не знают или писать некому, а попробуй напиши что-нибудь на кафеле. И вообще самое интересное написано на доске.
В квартире никого не было. На столе лежала записка от матери: «Погладь белье. Лешку я заберу». Записку красноречиво прижимал утюг, рядом лежал ворох белья.
В кастрюле нашлись две холодные картофелины. Заморив червячка (он явно жил под таинственной «ложечкой», этот червячок), Олька включила утюг. Две шелковые блузки матери, Лешкина мелочь и Сержантовы рубашки.
От утюга шло тепло и согревало. Только бы Сержант не заявился.
Она не повернулась на звук открывшейся двери, но сразу сделалось холодно.
Пьяный.
Пьяный в самой опасной стадии: бледный, глаза налиты кровью, злой. Только бы не начал цепляться.
Из кухни неслось лязганье кастрюль.
Как бабушка учила гладить блузку: сначала перед, объезжая утюгом пуговицы, затем…
– Где ужин?
…затем спинку и рукава, но так, чтобы…
– Я, кажется, спросил: где ужин?
…чтобы не помялся перед, и не реагировать, ничего не отвечать, а то не отвяжется.
– Ты что, совсем оглохла? Я спрашиваю…
…и только потом воротничок.
– Я спра-а-а…
– Мать сказала, что приготовит.
– Где эта с… сука?
…воротничок гладим от уголка к середине, до половины, потом переворачиваем…
– Я спрашиваю, где эта сука?
…потом переворачиваем блузку и гладим от второго кончика к середине, чтобы воротничок не морщил. Идиот: только что домогался, где ужин.
– Где – эта – сука?!
Не отрываясь от глажки, произнесла раздельно:
– Моя – мать – на работе.
Манжеты гладим в последнюю очередь.
– Ушла, с…сука. Сука! – выкрикнул яростно и повернулся к Ольке. – Она с…сука! Мать… мою м-мать выж…жила. Прогнала мать! Сукина мать прогнала эту с…суку, а сука прогнала мою мать. А т-ты…
Спрыснуть пересохшую рубашку, слегка растянуть руками… Хоть бы он уехал к Доре. Или в Анапу. Как было хорошо, пока его не было!
В кухне что-то стукнуло и начало падать. Бутылки от молока, их надо было сдать. Сейчас будет гонять по всей кухне. Что он там ищет? Загремела сковородка, вспыхнул газ. Опять шарит в кладовке. «Сука, – неслось из-за двери, – как-кая сука!»
Кладовка с грохотом захлопнулась. Что-то зашуршало, раздался задорный «чмок» открываемой бутылки и тихое бульканье. Наступила тишина. Хоть бы он там рухнул и уснул. Олька водила утюгом и прислушивалась к зловещей тишине. Скорее бы пришла мать. Он кинется обнимать Ленечку, потом завалится спать. Если повезет. Главное – не думать, что может произойти в промежутке.