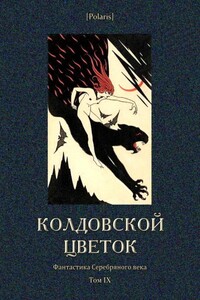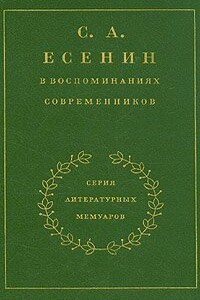Суриков - страница 46
Максимилиану Волошину Суриков говорил следующее: «А какое время надо, чтобы картина утряслась так, чтобы переменить ничего нельзя было. Действительные размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна линия, одна точка фона — и та нужна. Важно найти замок, чтобы все части соединить. Это математика. А потом проверять надо: поделить глазами всю картину по диагонали».
Тщательное «собирание» как бы инвентаря картины — человеческие фигуры и лица, все эти сапоги, расписные дуги, высококрышие дома, главки церквей, шубы, телогреи, платки, шапочки, посохи, — наконец было закончено, то есть, отобразилось в этюдах. Но художественное хозяйство требует разумной организации, быть может, гораздо тоньше, чем самое сложное житейское хозяйство.
Несколько композиционных этюдов показывают, как трудно и постепенно давалась ныне всем знакомая группировка в «Боярыне Морозовой». Первые наброски явно неуклюжи и неудачны. Композиционные пустоты сразу бросаются в глаза. Все связано, не на месте, омертвело, стоит, даже фальшиво. Особенно неудачна эта боярыня Морозова, которую художник никак не может правильно посадить на свое место. Известно, что, добиваясь естественной группировки толпы, Суриков несколько раз где-то в подмосковных деревнях договаривался с толпой баб и мужиков, расставлял их на лугу в нужных ему положениях и писал этюды с этих живых групп.
Колористические поиски по трудности были еще сложнее, чем композиционные. Когда Сурикова обвиняли в недостатках рисунка, в «некрепком рисунке», даже в небрежении им, художник, несколько предрасположенный к резкости определений и к парадоксальному мышлению, конечно, шутливо говаривал: «И собаку можно рисовать выучить, а колориту — не выучишь». Тут не могло бы помочь, пожалуй, самое точное научное знание, сама математика. Тут спасала и направляла особая способность глаза видеть красочную гамму, уметь представить ее в воображении и перенести на поверхность холста в точном соответствии с воображаемыми переливами оттенков.
Тут часто приходит к художнику на помощь мгновенное, концентрированное внимание на каком-либо явлении природы, вызывающее особую зрительную обостренность глаза. Так случилось с Суриковым.
Он рассказывал М. Волошину: «А то раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал. Да и «Казнь стрельцов» точно так же пошла: раз свечу зажженную, днем, на белой рубахе увидел с рефлексами».
Все суриковеды, так уж завелось, подхватили это глубоко верное и правдивое наблюдение Сурикова, но выводы из него сделали чересчур обобщающие и преувеличенные. Суриковеды особенно налегли и нажали в акцентировке на слово «отсюда пошла картина», то есть из этого живописного узла и только из него.
Обычную в художественной практике, нимало не таинственную, способность художника: ища — находить нужную живописную зарядку, — превратили в «диво-дивное». Вовсе не наитие свыше и не счастливая случайность, а огромная и кропотливая работа дала Сурикову возможность найти надлежащую высоту живописного выполнения своего замысла.
Этюды лиц и вещей, композиционные эскизы сменились этюдами колористическими. Тут заурядная ворона на заурядном снегу, а в самом существе — чудесное сочетание белого и черного заняли подобающее им место во внимании художника. Суриков ненасытимо изучал эффекты контрастов, набрасывая зимние московские бульвары с присевшим на скамью человеком или деревья в том же саду, кидающие на снег причудливые тени.
Это изучение в конце-концов принесло победу: художник отыскал нужную и выразительную одежду для боярыни Морозовой. Ворона на снегу была лишь частичным, не решающим моментом, так как общий тон «Боярыни Морозовой» — не белое и черное, а голубое, близкое к морозному инею.
Все подготовительные работы закончились и Суриков приступил к синтетическому перенесению материала на основной холст.
Годы создания «Боярыни Морозовой» — самые яркие и самые характерные во всей жизни Сурикова.
«Боярыня Морозова» — центральное произведение Сурикова, вершина его дарования, как бы могучий ствол дерева, во все стороны от которого расходятся крепкие, пышные ветви, но все же только ветви. Суриков это сознавал, и недаром даже некоторые этюды к «Боярыне Морозовой» он сделал «заветными» и никогда с ними не расставался.