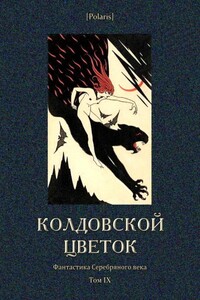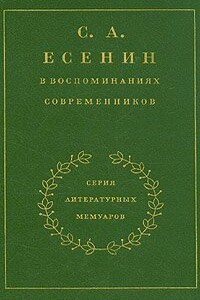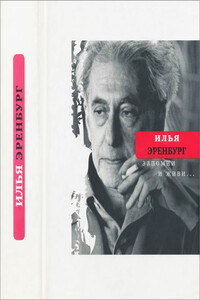«Если б я ад писал, — говорит Суриков, — то и сам бы в огне сидел и в огне позировать заставлял».
И вот он ведет с толчка для своего юродивого поразившего его человечка, пьяницу, сажает на снег, растирает ему голые ноги водкой и торопится запечатлеть его на снегу.
Нужны все «околичности», но прежде всего нужны лица, они зеркало чувств и. переживаний, без них умирают околичности, теряют самостоятельное существование, как без околичностей неполно выражение внутренней жизни лиц.
«Я каждого лица хотел смысл постичь. Мальчиком еще, помню, в лица все вглядывался — думал: почему это так красиво? Знаете, что значит симпатичное лицо? Это то, где черты сгармонированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали — сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти. Женские лица русские я очень любил, непорченые, ничем не тронутые. Среди учащихся в провинции попадаются еще такие лица. Вот посмотрите на этот этюд: вот царевна София, какой должна была быть, а совсем не такой, как у Репина. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти?.Их вот такая красота могла волновать, взмах бровей, быть может… Это я с барышни одной рисовал. На улице в Москве с матерью встретил. Приезжие они из Кишинева были. Не знал, как подойти. Однако решился. Стал объяснять, что художник. Долго они опасались — не верили». (Записи Волошина.)
Снова, как и во время создания «Утра стрелецкой казни», Суриков «стенографирует» на гитарных нотах композицию «Боярыни Морозовой». Но это только силуэт будущего. Нужны долгие «этюдные» поиски, которые сами по себе могут быть прекрасными, прежде чем задуманная композиция начнет самостоятельное существование, действующие лица в ней облекутся в живую плоть и как бы наполнятся теплой и одухотворяющей кровью.
«В (бывшем) собрании С. С. Боткина находился эскиз композиции Морозовой, в котором боярыня по букве ее жития, согласно требованиям археологии, сидит в санях, прикованная к стулу. Около саней бежит кто-то в красном, похожий на скомороха. Боярыня едет по широкой улице, а народ отступает куда-то вдаль, становится фоном. В Цветковском (бывшем)[8] собрании — новый эскиз, помеченный 1881 годом и, следовательно, ровесник «Утру стрелецкой казни». Морозова сидит уже не на стуле, а на каком-то возвышении в виде ящика или скамьи. Археология, как всегда у Сурикова, уступает место требованиям эстетики. Толпа сдвинута к правой стороне и из нее выделилась уже вошедшая в картину фигура коленопреклоненной женщины, тянущейся к саням Морозовой. Впереди саней кривляются скоморохи. В глубине — стены, похожие на кремлевские, и смутные очертания храма, быть может Василия Блаженного. Простора в композиции еще очень много. Более поздний эскиз — акварель 1885 года, разграфленная на квадратики для переноса ее на холст. Здесь уже определенно намечены некоторые красочные пятна картины: красного (стрельцы, Урусова, цепляющиеся за крючья церковных ставней мальчики) и синего — шубка боярышни. В собрании (бывшем) И. С. Остроухова[9] — новый карандашный подцвеченный акварелью набросок, тоже разграфленный квадратами. У семьи Сурикова— целый альбом композиционных исканий той же картины. Словом, композиция «Морозовой» далась Сурикову после долгих исканий. Он сам говорил по этому поводу А. Новицкому: «Главное для меня композиция. Тут есть какой-то твердый неумолимый закон, который можно только чутьем угадать, но который до того непреложен, что каждый прибавленный или убавленный вершок холста или лишняя поставленная точка разом меняет всю композицию. Знаете ли вы, например, что для своей «Боярыни Морозовой» я много раз пришивал холст. Не идет у меня лошадь». «В движении есть живые точки, а есть мертвые, — говорил нам Суриков. — Это настоящая математика. Сидящие в санях фигуры держат их на месте. Надо найти расстояние от рамы до саней, чтобы пустить их в ход. Чуть было найти расстояние — сани стоят. А мне Толстой с женой, когда «Морозову» смотрели, говорит: «Внизу надо срезать, низ не нужен, мешает». А там ничего убавить нельзя — сани не поедут». (