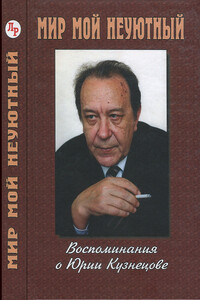Церковная служба в Харькове лето 1919 г
Завязалась долгая беседа на политическую тему. Рассказы игумена о зверствах большевиков не портили мне аппетита. А насытившись, описал, как умел, жизнь и поступки строителей «Единой Неделимой». Монах молча слушал, скорбно понурив голову, и соглашался со мной во многом. Он был непреклонен лишь в вопросах непогрешимости святой церкви, подкрепляя свое, мало убедительное, красноречие текстами из священного писания. Мне было совсем не до религиозных диспутов; пришлось только указать отцу Викентию, что церковь всегда служила орудием угнетения трудовых масс.
– Вспомните текст: «Несть власти, аще не от бога». – А скажите, Павел Васильевич, Май-Маевский был религиозный человек? Я рассказал о том, как в Харькове, набравшись смелости, я спросил генерала: – Ваше превосходительство, вы не верите ни во что, но почему же вы креститесь на парадах? – Капитан, – ответил Май-Маевский, – вы слишком молоды и не понимаете, что для простого народа это необходимо. На ночь нас устроили в отдельном монастырском флигеле. В маленькой комнате было тепло и по-своему уютно. Часть наших улеглась на кровати с соломенным матрацем и на маленьком диване, а остальные прямо на полу, на войлочном ковре, который заботливо принес монах. Воробьев, ради шутки, посоветовал Вульфсону: – Завтра нам предстоит трудная дорога. Ты бы помолился всем святым. Вульфсон, укрываясь рядном, засмеялся: – Пусть за нас помолятся монахи: им делать нечего. Потом наказал постовому: – А ты там смотри лучше! На святых не надейся! Тусклый свет лампад освещал две ветхие иконы и навевал дремоту. Некоторые товарищи попробовали было перекинуться анекдотами о монахах, но я напомнил, что утром нас ждет большой переход.
На следующий вечер мы подходили к подножию ялтинской Яйлы. Начался подъем. Сугробы и темь сбили нас с дороги. Пришлось взять направление на юг, ориентируясь тем, что северная сторона каждого дерева покрыта снегом. Чем выше – тем труднее: мы утопали в снегу, Яйла исчезла. Во тьме шумели могучие сосны, в дремучих лесных дебрях завывал ветер. Приходилось часто отдыхать в сугробах под густым кустарником, прижимаясь друг к другу. Наконец непроходимый снег заставил нас переменить направление. Через несколько сот шагов мы наткнулись на глубокий обрыв. Малейшая неосторожность, и человек упадет в пропасть. Но Воробьев пресек наше замешательство: – Товарищи, исхода нет. Не замерзать же здесь! Кто за мной – вперед! Он скользнул вниз, прыгая от дерева к дереву, за ним спустились я, Вульфсон и остальные. После часа мучительного спуска мы очутились в безопасности, по крайней Мере, от падения в пропасть. Вдали у подножья замигали огоньки. Мы скоро подошли к ним и, замедлив шаг, крадучись, стали пробираться к домам. Вдруг Воробьев шепнул – Тише! Слышите? В вечерней тьме уныло звучала песня. Это пел татарин и вязал хворост. Увидев вооруженных людей, он остолбенел, уронив хворост. Я спросил, понимает ли он по-русски. Татарин кивнул головой. – Какая это деревня и кто живет в том домике? – указал я на крайний дом. – Деревня Кучук Изимбаш, живет Измаил, «якши человек». Поняв, что мы не опричники Врангеля, жестоко преследовавшие за малейшую порубку, татарин спросил:

Татарская деревня Дерекой.
– Откуда твоя идет? Воробьев молча указал на обрыв. Татарин всплеснул руками. Оказывается, до нас еще никто не отваживался на спуск по этому обрыву. В домике Измаила нас приняли радушно. Хозяин, после традиционного «кош кельде» (с приездом), пригласил войти в комнату. Мы жадно уничтожали козье молоко и хлеб, а татарин допытывался, правда ли, что Орлов собрал всех дезертиров и, сговорившись со Слащевым, идет на фронт. Мы уже понимали всю гнусность орловских замыслов и были рады, что сама природа преградила нам дорогу в Ялту. Вблизи дома Измаила проживал пристав с четырнадцатью стражниками, и мы ушли сразу после обеда. Вечером нас хорошо встретили в деревне Адым-Чокрак, дали продуктов и указали дорогу к объездчику Евграфу, знакомому Воробьева. В горах мы набрели на житье: просека, за изгородью небольшой домик с сараем. Из трубы расстилался по балке серый дым. Навстречу затявкала собака, и на крыльцо вышел молодой человек в рабочей куртке и бархатной шляпе, из-под которой падали на плечи длинные волосы. Не то монах, не то художник. Приветливо улыбаясь, он снял шляпу и пригласил нас в дом. Вся обстановка его двух жилых комнат состояла из двух столиков, двух табуреток, кровати и самодельной скамьи со спинкой. Воробьев спросил про Евграфа, а я машинально читал названия книг на одном из столиков. Богатая у вас революционная литература, – не утерпел я: —кто ее читает? Хозяин пристально взглянул мне в лицо и, видимо, доверившись, признался: Я читаю.
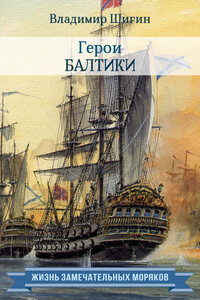
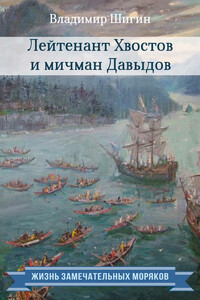







![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)