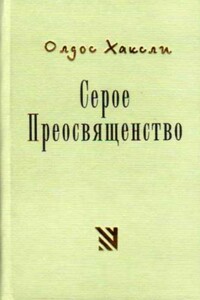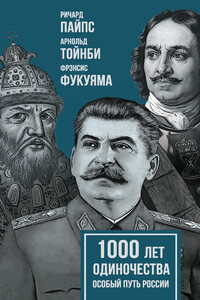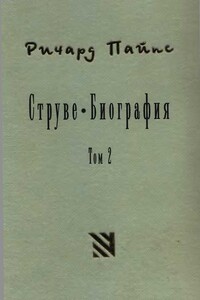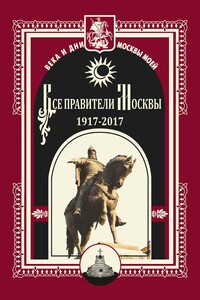Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 - страница 44
Ознакомившись с литературой, освещающей тему голода, Струве был поражен тем сходством, которое обнаружилось между точками зрения Воронцова, Даниельсона и Михайловского и некоторых западноевропейских домарксистов, иначе — «социалистов-утопистов». И те, и другие придерживались мнения, что человек способен влиять на ход истории, и те, и другие идеализировали общественную кооперацию и отрицали классовую борьбу, и те, и другие были дилетантами в экономике. Временами их точки зрения сходились настолько, что это просто бросалось в глаза. Например, Энгельс в 1845 году (еще до того, как он совместно с Марксом стал автором теории «научного социализма») утверждал, как это стали утверждать в 90-е годы Даниельсон и Воронцов, что в его стране, в Германии, процветанию капитализма мешает нехватка рынков, как местных, так и международных[154]. Конечно, между взглядами трех русских мыслителей существовали различия, позволявшие отличить позицию Михайловского от позиции Воронцова и обе их — от позиции Даниельсона, но эти различия становились несущественными на фоне исповедуемого всеми троими социологического и экономического утопизма. Струве был так поражен параллелизмом, обнаружившимся между русским социализмом 1870-х и 1880-х годов и западным «утопическим» социализмом 1830-40-х, что стал смотреть на них как на исторические аналоги. При этом российский вариант «утопического» социализма был обозначен им как «народничество».
Этот термин, получивший впоследствии столь широкое распространение, своей популяностью гораздо в большей степени обязан ранним публицистическим работам Струве, чем движению 1874 года — так называемому «хождению в народ», — как это обычно утверждается даже некоторыми профессиональными историками[155]. Российские радикалы 1870-х и 1880-х годов, как правило, называли себя не народниками, а социалистами- (или социал-) революционерами. Слово «народники» было выдумано в 1876 году диссиденствующей фракцией социалистов-революционеров, отвергающих идею, породившую движение «хождения в народ», на том основании, что позыв интеллигенции учить народные массы рожден ее высокомерием. Эти подлинные народники были антиинтеллектуалами и антисоциалистами; сотворив себе кумира из человека из народа, они хотели у него учиться. Вместо того чтобы идти в деревню с целью агитации или распространения пропагандистской литературы, они просто жили среди крестьян, разделяя условия их жизни. Однако позднее, в 1880-х, этот термин распространился на все виды движений, во всеуслышание заявлявших о своей любви к народу, будь то анархисты, якобинцы или консерваторы (например, в 1880-х даже Достоевского иногда называли народником). В конце 1880-х и в начале 90-х годов Воронцов и Юзов-Каблиц попытались придать этому термину некоторую определенность, обозначив «народничество» как идеологию, которая поддерживает народные институты и отвергает любые попытки навязать народу социализм; но терминологическая неразбериха продолжалась.
Среди тех, кто способствовал этой неразберихе, были и первые социал-демократы. Плеханов, страстно стремившийся отделить себя и своих сотоварищей от членов других российских радикальных групп, начал называть «народниками» всех, кто, какими бы ни были их внутренние разногласия, были согласны с двумя идеями, по мнению Плеханова, несовместимыми с «научным» социализмом: во-первых, с тем, что интеллигенция играет решающую роль в деле исторического прогресса, и, во-вторых, с тем, что Россия может достичь социализма, миновав стадию капитализма[156]. Вера Засулич тоже иногда использовала это слово в том же значении в своей переписке с Энгельсом[157]. Но подобное использование этого слова в 1880-х все еще оставалось спорадическим; к тому времени еще не существовало концепции народничества как идеологии, обладающей своей исторической спецификой.