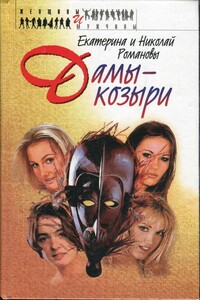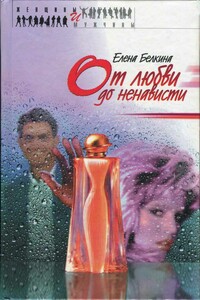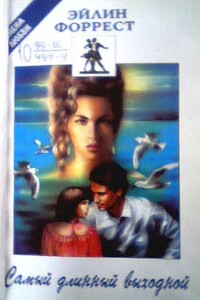Он говорит: ты что?
Я говорю: погладь меня по голове, мне грустно.
Стал он меня по голове гладить. Девочка моя, говорит.
Вот так вот.
В общем, безумия, как с тобой, не было, но все было очень хорошо и замечательно, уверяю тебя. А души даже больше. Я начинаю думать, что не в одном безумии дело. У тебя после этого безумия, друг мой милый, глаза сразу пустели. Или бегали, часы искали. Ты сразу уже в другом месте был. А он остался. Весь. Полностью. Понимаешь?
Я говорю: ну что, побыла в гостях, пойду к себе домой.
А он вдруг говорит: ты знаешь, я свои взгляды вдруг пересмотрел. Не уходи. Я хочу утром проснуться, чтобы ты рядом была. Ты только раньше меня не просыпайся.
Я пообещала.
А засыпая, друг ты мой, вспомнила мальчика Сашу. Вспомнила с мыслью, что теперь это наваждение прошло.
А сейчас говорю и понимаю: не прошло.
Может, объяснишь мне, как это бывает?
То есть понятно, что это совсем другое. Но что именно?
Ведь о том, чтобы шестнадцатилетней стать, я не мечтаю уже.
Или еще мечтаю, но сама себе в этом не признаюсь?
Когда ты назвал меня дурой два года назад, дурой, которая сроду не знает, чего хочет, ты был прав. Абсолютно прав.
А кассеты я теперь прячу. И на магнитофон наговариваю не вечерами, как раньше, а когда из школы прихожу. Шторы в комнате задергиваю, потому что привыкла — в полусумраке.
Убить бы все свои привычки!
Шестьсот шестьдесят шесть!
Неделю назад Вика пригласила меня в театр. Ну, то есть, как пригласила, просто спросила: не хочу ли? У нее мать в драмтеатре костюмершей работает. А отец был актер, только давно куда-то уехал. Вика любит театр, хотя и говорит, что он в нашем городе слабенький. Я с ней согласен. Они публику стараются заманить, комедии ставят зарубежные, а публика все равно не идет. Или классику ставят. Беспроигрышный вариант. Это, честно говоря, я не сам открыл, это моя любимая мама объяснила. Беспроигрышный — потому что классику в школе проходят, а город большой, школ много, вот старшеклассники и заполняют зал в добровольно-принудительном порядке.
Но на этот раз не местные играли, а приехали актеры из Москвы. Знаменитые. Из знаменитого театра. Поэтому я согласился. Посмотрю, поучусь. Политику нужно быть хорошим актером.
Ну, пришли. Сидим аж в первом ряду. Народу довольно много натолклось: на живых кумиров посмотреть. Но играли они отвратно. Они хотели только одного: нравиться. И большинству нравились. Но играли так, что я каждую минуту видел, что они играют. Это туфта. Играть надо так, чтобы никто не понял, что играешь. Мысль примитивная. Но верная.
А Вике понравилось. Ей пьеса понравилась, верней, там их было четыре маленьких. Все — про любовь. Она не смотрела, а слушала. Я это по ее лицу сразу понял. Когда человек влюблен и слушает про любовь, ему все нравится. Потому что он на себя примеряет. Я решил попробовать тоже слушать и думать про Машу. Но как-то не получилось.
После спектакля я Вику, само собой, проводил. А чего не проводить: по пути к дому.
Она говорит: зайдешь кофе выпить?
Я говорю: можно.
Почему не выпить, если мамаша ее — тишайший человек. И деликатнейший. Мы с Викой обычно на кухне закрываемся и целуемся часа по два, и она ни разу не войдет. Мне, кстати, что-то целоваться очень захотелось. Настроение романтическое было. Я даже придумал, что немножко Вику люблю, как будто она немножко Маша. Вошли в квартиру, там тишина, мамаши нет. Не вернулась еще с работы?
Вика говорит: нет, она на гастролях, на два дня их отправили районы культурно обслуживать. Ну и заработать хоть сколько. Маленькие, а деньги. Они же там, в районах, совсем не видят ничего.
Поэтому кофе не на кухне пили, а в комнате. Вика свечку зажгла. И я вижу, что она счастлива до смерти. Мне даже завидно. Думаю: мне тоже ничего от Маши не надо, а вот так бы сидеть с ней при свечке, кофе пить. И несчастно ее любить. И пусть она мне завидует, что я ее люблю. И от зависти, может, тоже захочет попробовать меня полюбить. Даже точно захочет, я по себе сужу, потому что я захотел Вику полюбить.
Так что я и одной чашки не допил, начал ее целовать.
Тут она говорит: вот что, хватит меня с ума сводить.