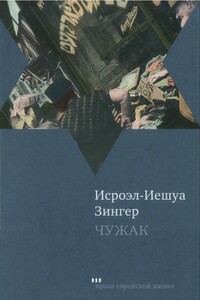— На тебе, какая напасть ни с того ни с сего! — восклицали женщины, сплевывая через плечо, чтобы, не дай Бог, к их детям не прилипло ничего из выпавшего «коленам» наказания.
Когда лекарь Шая-Лозер на третий день нашел, что больные опухают, что в его практике лечения скарлатины встречалось редко, он снял картуз, словно тот мешал ему принять врачебное решение, и посоветовал вдове вызвать польского доктора пана Шнядецкого.
Госпожа Эстер-Годес, не все идет гладко, — встревоженно сказал Шая-Лозер. — Пусть придет доктор, я боюсь, что в одиночку не справлюсь…
Доктор пан Шнядецкий, как всегда, сердился и гневно стучал тростью оттого, что, как водится, сперва позволяют этим еврейским клистирникам запустить болезнь и только потом, когда уже слишком поздно, посылают за ним, за доктором. И лишь когда пан Шнядецкий вволю покричал и поругался, он зло прослушал больных и нашел, что у них опасно затронуты почки и что всякие другие осложнения не заставят себя ждать.
Вдова портного Биньомина тут же с воплем бросилась в ноги польскому доктору:
— Ясновельможный пан, спасите моих детей!
Пан Шнядецкий отстранил ее от себя костяным набалдашником трости.
— Все претензии к твоему жидовскому клистирнику, глупая баба, — сказал он, обращаясь к ней на «ты», как он всегда обращался к евреям.
Из слов поляка вдове стало совершенно ясно, что дела совсем плохи и что только молитвы и мольбы, быть может, еще способны смягчить роковой приговор Небес.
Завернувшись в большой темный платок, которые женщины надевают, когда им предстоит быть среди мужчин, она побежала в синагогальный переулок, ворвалась в синагогу, растолкала с материнской настойчивостью молящихся мужчин, припала к резному орн-койдешу и от всего своего изболевшего вдовьего сердца закричала стоящим в нем свиткам Торы.
— Святые Торы, смилуйтесь над моими недужными детьми, — надрывалась она перед свитками, цепляясь за их шелковые и бархатные чехлы, целуя и орошая их слезами, — сжальтесь над горькой вдовой, защитите зеницу ее ока, спасите ее два юных деревца…
Молящиеся, которые сперва милостиво отнеслись к представительнице слабого пола, в горькую минуту ворвавшуюся в святое место, в мужской удел, начали, однако, все больше раздражаться и терять терпение, когда бабьи причитания и молитвы перед открытым орн-койдешем слишком затянулись.
— Ну, ише… тфиле… мафсик…[65] — настаивали они, давая понять, что она уже достаточно попричитала и может теперь идти домой, потому что мешает мужчинам молиться.
Но вдова не позволила выпроводить себя и вцепилась в свитки, которые скособочились на своих тонких точеных ручках, инкрустированных перламутром. Когда вдова наконец закрыла орн-койдеш и задернула паройхес, она прежде всего подошла к штендеру[66] раввина, рядом с омудом, и, раскинув руки в своей темной шали, что сделало ее похожей на черную птицу с распростертыми крыльями, попросила раввина о милости, о заступничестве перед Небесами за ее опасно больных детей.
— Святой праведник, попросите Бога за горем убитую мать, — завопила она тонким голосом, — спасите меня от моего великого несчастья…
До глубины души тронутый женскими причитаниями, смущаясь тем, что женщина перед всеми назвала его святым праведником, что конечно же звучало насмешкой в ушах ученых мужей, которые не верили в его святость, но больше всего стыдясь своей собственной беспомощности и неспособности сделать что-нибудь для той, которая верит в его силы, раввин пообещал вдове, что он, без обета, будет просить Бога, будет молиться что есть сил, но она пусть идет домой.
— Ну, о, рибойне-шел-ойлем, ов а-рахмим, — пробормотал он на святом языке, чтобы не прерывать молитвы, — ну, о, тфиле бецибер[67].
Вдова не хотела уходить.
— Прочитайте псалмы за моих ласточек, — требовала она, — просите о милосердии для Шимена и Лейви, сыновей вдовы Эстер-Годес…
Только когда раввин обещал ей, что не перестанет молиться, пока хазан и вся община будут читать псалмы, вдова ушла из синагоги, ломая руки и рыдая.
Так как причитания перед орн-койдешем и чтение псалмов общиной не подействовали на столь грозные в элуле Небеса и больным становилось все хуже и хуже, вдова пошла на кладбище за местечком, пала на колени перед могилой своего мужа, и горючие слезы из ее черных глаз хлынули на надгробие.