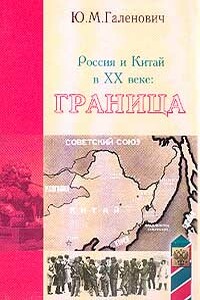Пусть смешные этрусские вазы
Чернокнижнику радуют взор.
Унитазы! Прошу: унитазы! —
Голубой, как невеста, фарфор.
Электрический котик! Мутоны!
Легче трели ночных соловьев,
Шелковисты, как руки Мадонны,
И прохладны, как бедра ее!
Абрикосы! — Рожденный из пены,
Как богиня, понятен и прост:
— Абрикос, золотой, как Микены!
— Розоватый, как зад, абрикос!
[315]Мгновение, выхваченное из городской суеты и вновь поглощенное ею, — общее место в урбанистической лирике. У скользающая красота («lа fugitive beaute», отсюда название фильма Б. Бертолуччи) традиционно иллюстрируется стихотворением Бодлера «А une passante» в истолковании Беньямина[316]. Мандельштам избежал банального повторения этой поэтической формулы, запечатленной в новелле По «Человек толпы» (среди прочих текстов американского романтика переведенной Бодлером), не став еще одним посетителем кафе, следящим из-за стекла за мельтешением на улице или пускающимся в преследование загадочного незнакомца. Гораздо больше он почерпнул из зарисовок городских будней и жизни городского дна в «Tableaux parisiens» и «Petits роёте8 en prose» — ср., например, его «Сенную площадь», «Тряпичника», «Продавца масок» или стихотворение о гастролях китайского цирка[317]. «Болтайки» по таким задворкам центра, как Коломна, в традициях модернистского урбанизма не могли пренебречь оптикой посетителя пассажей и азартом охоты на ускользающее от наблюдения мгновение. Но намного более, чем рассеянность фланера или наблюдательность завсегдатая кафе, ленинградского поэта, увлеченного поэзией тонкого и влиятельного художественного критика, занимало зрение прогулки.
Здесь стоит сказать о прогулках на трамвае. Несмотря на привычное сопоставление стихов Р. Мандельштама и Гумилева, поездки по послевоенному Ленинграду не похожи на зловещее путешествие в «бездну времен» («Заблудившийся трамвай»). Трамвай послевоенного времени уютен и эротичен:
Здесь шутят удачней и больше,
Спасаясь сюда от дождей,
Все девушки
Все девушки кажутся тоньше,
Задумчивей и нежней
[318].
Вечерние поездки на трамвае превращаются в эпизоды из «лунной сказки»: кондукторы «на пороге веселых вагонов» продают билеты желающим уехать подальше от дневных забот[319]. Трамвай — не источник опасности, но прибежище для отчаявшихся:
За окном, закованным в железо,
Где замок тугой, как самострел,
Бродит страх, безрадостный, как бездна,
Вечный страх разящих мимо стрел
[320].
В первую очередь «болтайки» рассказывают историю взгляда, подсматривающего реальность в ее непосредственности. Для понимания этого взгляда были бы в равной степени неуместны сопоставления и с разошедшимся на цитаты урбанизмом по Беньямину, и с вуайеризмом как отпечатком бессознательного в интерпретации Р. Краусс, прослеживающей традицию сюрреалистской фотографии от «Происхождения мира» Курбе через «Дано» Дюшана[321]. Авангардистская критика изобразительности осталась вне поля зрения «арефьевцев», как и психология бессознательного. Они предпочитали позднеромантические «видения», и даже прогулки Блока, искавшего мистический визионерский опыт на окраинах Петербурга, совпадали с блужданиями «арефьевцев» разве что территориально. Писатель Наль Подольский, составитель первого изданного в России сборника Мандельштама «Алый трамвай», в своем романе, посвященном поэту и носящем то же название, что и его стихотворение, «Замерзшие корабли», нарисовал нечто наподобие позднесоветской неоромантической фантасмагории. В заброшенном «петербургском» доме живет колдун-гипнотизер, поэт влюбляется в таинственную незнакомку, которая связана с гипнотизером, и т. д.[322] В реальности Мандельштам мог отличаться от своего литературного двойника — например, в отличие от героя «Замерзших кораблей» и многих «семидесятников» он не работал в котельной. Тем не менее характерно, что его фигура была воспринята активистами «Клуба-81» (объединявшего писателей и художников ленинградского андеграунда 1980-х годов, многие из которых участвовали в первом официальном издании неофициального сообщества — сборнике «Круг») как персонаж фантастической сказки. В романе Н. Подольского подчеркнуто, что Мандельштам, как, возможно, и «Болтайка» в целом, отдавал предпочтение романтической и позднеромантической фантазии перед символистской визионерской мистикой.