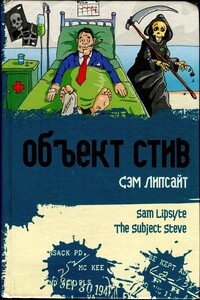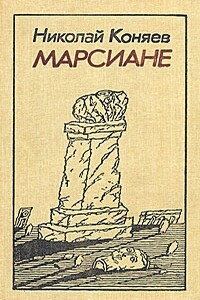И все-таки он задремал,
потому что неожиданно увидел тонкие полоски света, обозначающие контуры
нескольких завешенных чем-то окон, а это значит, что прежде была ночь, а теперь
утро... И сразу отлегло от сердца — хоть что-то стало яснее...
Через два часа он знал
уже немного побольше. Чуть-чуть больше, но количество вопросов от этого
почему-то только увеличилось. Итак, что ему известно наверняка? Он захвачен
некими людьми для неких целей. Захвачен профессионально. Но это не менты.
Иначе, почему он здесь, в какой-то старой избе, а не в изоляторе? И не
бандитами, тем более чехами, — скорее военными... Нет, вероятно, это какая-то
спецслужба: ФСБ, АБВГД, в конце концов, — сейчас только ленивый не имеет своей
спецслужбы...
Два часа назад его
поднял с кровати какой-то огромный мужик метра под два ростом. Он, Прямой —
метр восемьдесят пять и девяносто два килограмма — в руках этого бугая был
просто, как сноп соломы: мужик отцепил его от кровати, повертел, поставил на
пол и жизнеутверждающе сказал:
— Пойдем, Сергей
Григорьевич, на двор делать пи-пи. Только не шали, могу нечаянно члены
повредить!
При этом он приковал
наручниками правую руку Прямого к своей левой лапе.
— Где я? — просипел
слабым голосом Прямой.
— Ну уж, все тебе сразу
— вынь да положь! Потерпи чуток. Лады? — добродушно отрезал мужик.
Прямой про себя окрестил
его Кабаном: больно тот был необъятен, толстошей и щетинист — кабан и все тут,
разве что не агрессивен. И даже после того, как Кабан отрекомендовался, Прямой
оставил за ним прежнюю кличку.
— Зови меня просто
“сержант”, — сказал тот, когда они вернулись обратно, — ты, я знаю, Сергей
Григорьевич, а я, стало быть — сержант. Лады?
— Лады, — пробубнил
Прямой, и пошутил, — только, в натуре, поскромничал, начальник, наверняка,
старший сержант, а?
Кабан неожиданно дернул
Прямого за прикованную правую руку, и тот ощутил исходившую от “сержанта”
чудовищную кабанью мощь. “А ведь не соврал насчет “члены повредить”, — отметил
для себя Прямой, — ох, не соврал”.
“Итак, Кабан, и еще двое
во дворе с “Кипарисами” в руках, мол, знай наших, — делал Прямой мысленные
зарубки на память. — Должно быть, есть и еще. Ну, залетел, в натуре! Один Кабан
стоит троих. Но, с другой стороны, пока еще рано делать выводы. Поживем —
увидим...”
В доме Кабан пристегнул
его браслетами к ручке привинченного к полу деревянного кресла, а сам занялся
хозяйственными делами. Потешным было это зрелище: наблюдать за тем, как
суетился он у кухонного стола, как дергался в его огромной лапе маленький
кухонный ножик, как напряженно дрожали под ним половицы, и при всем этом
слышать добродушное мурлыканье какого-то мотивчика.
Впрочем, обед вышел у
Кабана неплохим. Они откушали, причем Прямой делал это одной рукой, так как
Кабан наотрез отказался его отстегнуть. Не положено — и все!
— А тот матросик, —
полюбопытствовал Прямой, — что меня ухайдакал, он тоже сержант, или как?
— А ты сам у него и
спроси, когда увидишь. Только особо с ним не шути. Не любит он, можно и
нарваться.
— От этого подростка? —
удивился Прямой. — Ему ж не боле семнадцати.
— Короче, — рассердился
Кабан, — сам у него все и расспрашивай, а мне не положено. Лады?
Разговор после обеда
что-то никак не клеился, они замолчали, и Прямой рассматривал свое вынужденное
пристанище. Дом был в одну комнату квадратов на тридцать с печью посередине. На
восточную и западную стороны выходило по одному окну, а на южную — два. Сейчас
окна были открыты для света, но все равно глаз дальше легких голубеньких
занавесок, кокетливо скрывавших все, что вовне, не мог ничего разглядеть. У
противоположной от него стены стоял длинный кухонный стол, около которого
давеча вертелся Кабан; над ним самодельные полки с посудой, а справа, в углу,
большая икона Святителя Николая, в покрытом копотью и пылью киоте. Ближе к его
креслу — большой обеденный стол и несколько стульев. По стенам три кровати:
его, кабанья и незанятая, застеленная зеленым покрывалом. На стенах лохматились
и пузырились грязные, в многолетних подтеках, неопределенного цвета, обои. И
лишь печь совершенно не вписывалась в здешний неказистый интерьер. Была она
выложена красивыми объемными керамическими блоками с орнаментами; на одну ее
сторону выходила плита, на другую камин и небольшая лежанка; над каминной
полкой высилось резное керамическое панно. Нет, совсем она здесь не вязалась,
словно поставлена была по щучьему веленью, каким-то Емелей, лишенным
наималейшего вкуса. Кабан, видно, догадавшись о чем думает пленник, спросил: