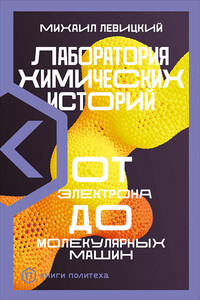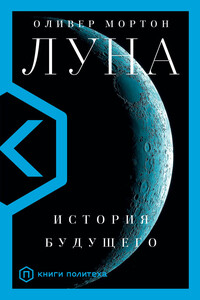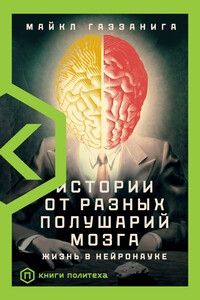Так одни из самых великих мудрецов создавали свои картины функционирования тела, разума и души. Им пришлось вписать неоспоримые, как им казалось, факты в такую модель, в которой четко проведены границы между людьми, животными, богами, разумом и сознанием. Те, кто занимается моделированием, делают то же самое, даже в наши дни. Составив модель, они постоянно корректируют ее, сверяясь с новой информацией, пока им не покажется, что их модель объясняет суть дела. Но в данном случае модель представляла собой полный сумбур.
К концу XVII века было сформулировано множество теорий о сути сознания, и это лишь добавляло неразберихи. День, когда накопленные факты составят основу для научных концепций будущего, еще наступит, но пока фундаментальной теоретической схемы, которая объясняла бы, что такое сознание, не существовало. Философы никак не могли договориться по этому вопросу, и бытовало мнение, что философские трактовки сознания довольно бестолковы. Чтобы поставить теорию сознания на прямой путь в будущее, потребовалось вмешательство не по годам развитого шотландского философа Дэвида Юма, уже в 18 лет уставшего от «бесконечных философских диспутов». Этику и натурфилософию древних он счел «абсолютно бездоказательными и опирающимися не столько на Опыт, сколько на Вымысел»>[2].
В преддверии современных концепций
Казалось, Юм ворвался на арену философии уже готовым к бою бунтарем, поставившим себе задачей прекратить все разговоры об идеализме. Идея о каком-то сверхъестественном положении разума по отношению к телу представлялась ему заблуждением – да и просто глупостью. Он хотел покончить с этим раз и навсегда и создать стройную теорию о подлинной природе жизни. Что он и сделал – и на ближайшие века радикально изменил ход мысли людей о природе разума.
Юм быстро понял, что его современники повторяют распространенные ошибки древних философов – например, формулируют гипотезы, исходя не из опыта и наблюдений, а из рассуждений и вымыслов. По убеждению Юма, мы судим о реальности по своему опыту, а также, хорошо это или плохо, на основании выбранных аксиом. Аксиомы – это настолько, как нам кажется, очевидные или устоявшиеся утверждения, что их можно принять без возражений, вопросов и доказательств, просто взяв на вооружение. То есть аксиома – это в принципе недоказуемое допущение или точка зрения. Но тут есть одна загвоздка: если знание основано на аксиоме, то выводы о реальности зависят от выбранной аксиоматики. Как предупреждает Роберт Браун, физик из Университета Дьюка, «в философских рассуждениях самое опасное и важное дело – это выбор аксиом… Самое бесполезное занятие – вступать в философский, религиозный или социологический спор с человеком, использующим совершенно другие аксиомы, нежели твои»>[3].
Действительно, Юм решил, что философы часто обсуждают псевдопроблемы, которые нельзя решить методами логики, математики и рационального мышления, ибо любое решение неизбежно в той или иной степени будет опираться на недоказанный тезис, или аксиому. Хватит, думал он, философам отнимать время у почтенной публики, без конца переписывая псевдопроблемы и вываливая людям на головы свои бездоказательные умозаключения, пора уже им вслед за учеными прекратить словесные спекуляции. Надо отказаться от всего, что не основано на фактах и наблюдениях, – и, в частности, не стоит апеллировать к сверхъестественному. Юм имел в виду Декарта и других философов, считавших, что они методами математики, логики и аргументации убедительно продемонстрировали дуализм в философии. В наше время позиция Юма более или менее поддерживается всеми – отчасти потому, что нынешние ученые-философы работают в современных исследовательских университетах, где ведутся естественнонаучные эксперименты. Картезианские настроения и сейчас еще иногда дают о себе знать, но, как правило, ни философы, ни другие ученые не воспринимают их всерьез. Однако в начале восемнадцатого столетия дерзкие нападки Юма на Декарта подрывали все устои.
У Юма были грандиозные планы – создать «науку о человеке», то есть, используя научный метод Ньютона, найти фундаментальные законы, которые приводят хитрые игры разума в соответствие всему тому, что было известно о ньютоновском мире. Ему казалось, что если разобраться в человеческой природе со всеми ее сильными и слабыми сторонами, то станет более понятно поведение людей в целом. Это позволило бы также увидеть, чего можно достичь, каковы подводные камни в наших интеллектуальных поисках и какие аспекты нашего мышления могут помешать нам понять самих себя. Собственно, Юм думал, что его теория человека затмит ньютоновские: «Даже