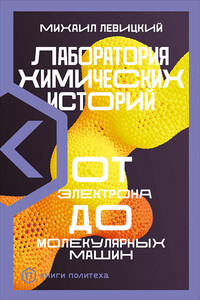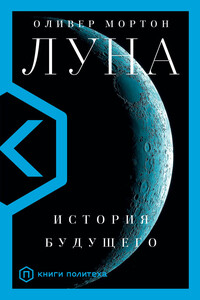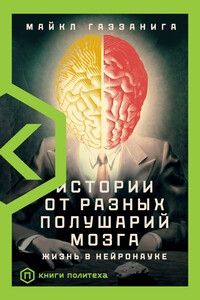Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика - страница 19
Итак, опираясь на повторяющийся опыт, мы знаем или предполагаем в силу привычки, что В и впредь всегда будет следовать за А. И тут мы упираемся в логический тупик. Представьте себе такую картину: вы всегда любили креветки, и вот однажды вечером вы взяли своего двухлетнего ребенка и поехали к отцу в загородный дом, где тот обычно рыбачит, а по пути остановились перекусить в придорожном кафе. Вы начинаете с аппетитом уплетать сочные креветки, но буквально сразу давитесь. Вы пытаетесь глотнуть воздуха и понимаете, что это аллергическая реакция. Вкусная еда принесла вам не удовольствие, а страшные мучения. Как мы переходим от «я могу есть креветки» к «сегодня вечером я смогу съесть креветки»? Обычно это удается сделать, но бывает, что и нет, – эссеист Нассим Талеб назвал бы такие редкие исключения событиями «Черный лебедь». Дело в том, что мы можем сделать какие-либо выводы о причинно-следственных отношениях в будущем, только приняв, что в будущем наступят те же последствия, что наступали в прошлом. Мы принимаем такие допущения по сто раз на дню. Как мы приходим к этому соглашению? Юм доказывает, что не путем логических рассуждений, ибо, с точки зрения логики, легко предположить какие-то иные последствия. Умом вы понимаете, что можно выйти из дома и попытаться завести машину, но поворот ключа зажигания ничего не даст: будет не как вчера, позавчера и вообще в любой день за последние пять лет. Юм не принимает во внимание и наши вероятностные (эмпирические) доводы, поскольку это замкнутый круг – предполагается то, что мы пытаемся доказать (в будущем наступят те же последствия, что и раньше). Он приходит к заключению, что наша вера в единообразие природы и одинаковость последствий в прошлом и будущем должны выводиться из основанной на ассоциациях привычки не умом, а психологически.
Весьма смелый тезис, последствия которого непредсказуемы, – и Юм это понимал. Он ставит под сомнение идею причинности, приравнивая ее к аксиоме, – то есть высказыванию, которое не стоит даже пытаться обосновать. На самом деле он не сомневается в том, что у причин есть следствия – он задается вопросом, откуда берется наша уверенность в этом. В 1754 году он писал Джону Стюарту, профессору натурфилософии из Эдинбурга: «Позвольте сказать Вам, что я никогда не утверждал столь нелепого положения, а именно что какая-либо вещь может возникнуть без причины; я утверждал лишь, что наша уверенность в ошибочности такого положения исходит не от интуиции и не от демонстрации, а из другого источника»>[8].
Юм показал, что аксиому о причине и следствии невозможно доказать в рамках математики, логики и здравого смысла. Юм восхищался Ньютоном, но в данном случае усомнился в философском базисе ньютоновского учения, а вместе с ним и в механистической определенности всего мира и мозга с разумом. Далее мы увидим, что сомнения в механистической определенности могут завести нас в любопытную область.
О самоощущении, то есть о личной идентичности, Юму тоже было что сказать. В результате самонаблюдения он пришел к выводу, что «я сам» состоит из целого набора восприятий, а вот субъекта, в котором эти восприятия проявлялись бы, не существует: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в нечто, именуемое мной своим