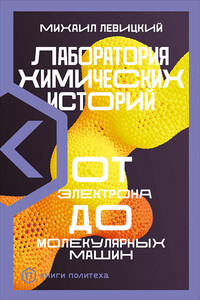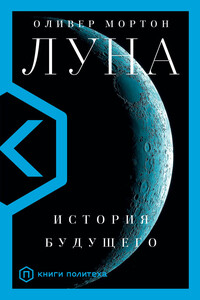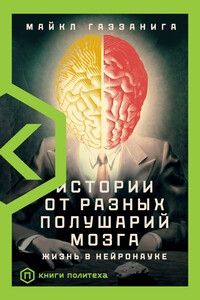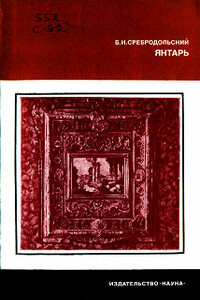Перебирая и анализируя сотни клинических случаев, Сиденхем заметил, что для того или иного заболевания характерна одинаковая симптоматика, и неважно, кто был его пациент – кузнец из Сассекса или сам герцог Йоркский. Он пришел к выводу, что болезни можно различить по набору симптомов, и принялся систематизировать их, как если бы систематизировал растения. В те времена оставались в ходу относительно субъективные галеновские диагнозы и методы лечения, так что это был революционный шаг. По Галену, у каждого пациента болезнь вызывало специфическое нарушение гуморального равновесия, что требовало индивидуального подхода к лечению. Сиденхем, напротив, заложил основы того, что сейчас кажется первыми ростками доказательной медицины. Испытывая в группе пациентов различные методы лечения одной болезни, он оценивал их эффективность, а также корректировал терапию. Как ни странно, взгляды Галена лучше согласуются с нашей новой тенденцией к индивидуальному выбору схемы лечения, в то время как подход Сиденхема ближе к формализованной медицине, где всех пациентов с одинаковым комплексом проявлений болезни лечат по установленным методикам со стандартными процедурами. В 7 и 8 главах мы еще увидим, что подобные столкновения различных концепций (обычное дело в науке) приводят к ожесточенным спорам с необходимостью выбирать «или-или», хотя в действительности всегда можно найти по крайней мере еще одно решение. Это называется «ложная дилемма», вариант неформальной ошибки. Как мы увидим, физики решительно доказали, что обычно бывает недостаточно одного-единственного ответа. Мы вспомним об этом в разговоре о том, как нейроны создают разум.
Как и следовало ожидать от будущего великого философа, Локк засыпал Сиденхема вопросами о его методах. Так ли уж необходимо знать первичную причину заболевания, чтобы его лечить? Можно ли вообще ее найти? Уиллис полагал, что причины найти можно, ведь ради этого он и проводил вскрытия и эксперименты, но Локк и Сиденхем думали иначе. По их мнению, человек не в силах постичь причины болезни; позже Локк пришел к убеждению, что умственная деятельность и сущность вещей одинаково непостижимы. Он мыслил в философии так же, как Локк лечил больных – позволял себе рассуждать только о том, что подтверждалось повседневным опытом. При такой позиции неудивительно, что Локк выдвинул концепцию чистой доски, знаменитой «табула раса», согласно которой разум формируется только на основании опыта и саморефлексии. На этом положении основана общепринятая современная теория человека в социологии – все дело в воспитании.
Несмотря на то, что и Локк, и Декарт в конце концов пришли к дуализму, во многих деталях их идеи различались. Локк размышлял о душе с точки зрения психологии. «Сознание есть восприятие того, что происходит у человека в его собственном уме», – писал он[1]. В его теории это восприятие, или осознание восприятия, становится возможным благодаря «внутреннему источнику ощущений» – Локк назвал его «РЕФЛЕКСИЕЙ, потому что он (источник) доставляет только такие идеи, которые приобретаются умом при помощи размышления о своей собственной деятельности внутри себя». Локк даже идет еще дальше и утверждает, что бессознательных психических состояний не бывает: «…ибо невозможно, чтобы кто-нибудь воспринимал, не воспринимая, что он воспринимает».
Локк, в отличие от Декарта, разрывает связь между душой и разумом (то есть тем, что думает). Вспомним, что Декарт отождествлял разум и душу – мысль есть главный атрибут разума, а субстанция не может существовать без своего главного атрибута. Следовательно, разум думает постоянно, даже когда спит, пусть эти мысли и забываются моментально. Локк согласен с постоянной работой бодрствующего ума, но, исходя из собственного опыта, возражает против того, что человек, который спит без сновидений, тоже мыслит. Однако душа у такого человека есть – а вдруг он умрет во сне, что тогда? Потому Локк утверждал, что нельзя смешивать разум – с присущим ему сознанием – и душу! Элементарно!
Кроме того, Декарт ограничивал содержание сознания текущей умственной деятельностью. Локк таких ограничений не накладывал. По его мнению, человек может осознавать прошедшие события и работу разума. Локк рассматривал сознание как клей, который скрепляет прошлое человека с его самоощущением, личной идентичностью. Он считал, что мы воспринимаем свое прошлое как личную историю благодаря сознанию. Как и Декарт, Локк наделил людей свободой воли, но добавил в формулу всемогущего Бога и обошел трудное место – вопрос о том, как материя ее порождает, – сказав, что на то была воля Божья.