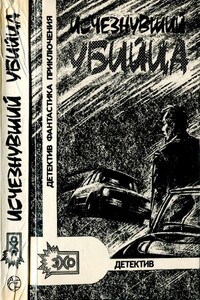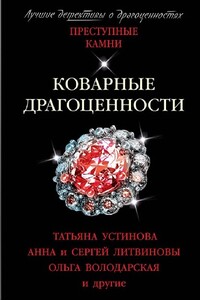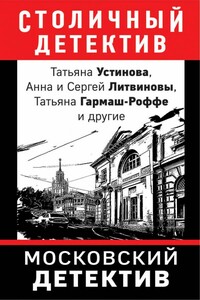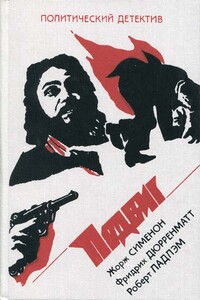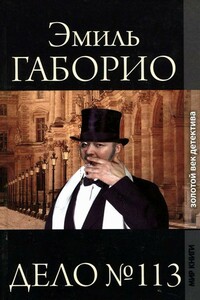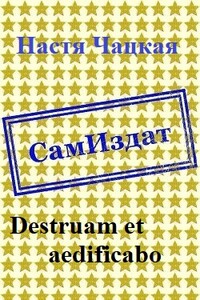Средняя дверь в палату распахнулась, и сдавленный голос, словно подпрыгивая на ходу, ласково пропел: «Всем доброе утро!»
Старший санитар Вайраух — волосы не намазаны, очков нет… Ни дать ни взять, заплывший жиром какаду.
— Все прошло спокойно, Боненблуст? — спросил он. И тут же, не дожидаясь ответа: — Э-э, господин вахмистр Штудер! Вы уже тоже на ногах? Приветствую вас сердечно!
Штудер пробормотал в ответ что-то невразумительное.
— Подайте мне тетрадь с записями, Боненблуст! — И старший санитар Вайраух выкатился в дверь.
Вид просыпающейся надзорной палаты долго еще стоял потом у Штудера в глазах: из кроватей выползли люди, цепочкой потянулись к кранам с водой, расположенным вдоль стены, повозили мокрым полотенцем по лицу, позевали и посмотрели раз-другой на окна, никак не понимая, зачем убивать здесь еще один день, когда его можно так хорошо прожить… Так по крайней мере представилось все Штудеру. Его потянуло на кухню, к Шюлю, к геройскому инвалиду войны с орденом Почетного легиона, медалью за храбрость и полной военной пенсией. Он бесшумно прошел по узкому коридору и застыл перед дверью, ведшей в помещение с голубыми стенами.
Шюль был занят тем, что открывал окно. Шпингалета на раме не было, окно, как и входную дверь, можно было открыть только трехгранником. Именно его Шюль и держал в руке. То не был обычный ключ, инструмент в руках Шюля нисколько не походил на трехгранник, лежавший у вахмистра в кармане.
— Покажи-ка мне вот это, Шюль, — мягко сказал Штудер. Шюль обернулся, ничуть не остерегаясь, и приветливо сказал:
— Доброе утро, господин инспектор. — И протянул, улыбаясь, вахмистру металлическую гильзу, обработанную под трехгранный ключ.
— А Питерлену ты не дарил такого вот ключа?
Неописуемое удивление.
— Ну конечно, само собой. Он им пользовался. У меня еще несколько штук есть. Старые патронные гильзы, я их нашел на прогулке…
— Спасибо тебе за стихотворение, Шюль, оно очень даже прекрасное. Значит, Питерлену ты подарил такой вот трехгранник? А другим пациентам ты их тоже дашь?
— Другим? Нет! Они же сумасшедшие. Completement fous,[10] — сказал он убежденно. — А Питерлен был моим другом. И потому…
— Я понимаю тебя, Шюль.
Но друг Матто, Великого духа и властелина, не дал себя перебить. Он показал на окно.
— Вон там, на той стороне, — сказал он, — у Питерлена была любимая, и он часто стоял у окна. Иногда она тоже подходила к окну и махала ему, его любовь, вон оттуда… И я открывал окно, если санитары не ошивались поблизости. — (Это «не ошивались» звучало комично в возвышенных устах Шюля.) — И тогда она тоже открывала окно на той стороне…
Правильно! На той стороне женское отделение «Н», где Ирма Вазем работала сиделкой. От одного окна до другого добрых метров сто, а может, и чуть больше…
Я знал двух детей королевских —
Печаль их была велика:
Они полюбили друг друга,
Но их разлучала река.
[11]Нет, не совсем то. Во-первых, речь шла не о королевских детях, а о показательном больном Питерлене и сиделке Ирме Вазем, а во-вторых, никакой реки здесь не было, а всего лишь двор… Однако же…
— Шюль, скажи мне, как выглядел Питерлен?
— Маленький, меньше меня, приземистый, сильный. Вот такие мускулы на руках. Он был единственный, кто по-настоящему понимал меня. Другие высмеивают меня из-за Матто и из-за убийства в Голубином ущелье. А Питерлен никогда не смеялся. Mon pauvre vieux,[12] говорил он мне, он ведь разговаривал со мной по-французски, мне все это известно, я ведь сам побывал у Матто…
Да, это так. Питерлен даже довольно надолго задерживался там у него в гостях… И что это Штудеру представилось все вдруг в таком печальном и безнадежном свете? И зачем это нужно возвращать души назад, от Матто, где они нашли пристанище, бежав от общества и мира людей, среди которых им было неуютно? Почему не оставить их там в покое? Остался бы Питерлен больным, или, выражаясь по-научному, шизофреником, — он никогда бы не влюбился в Ирму Вазем, не предпринял бы попытки бежать, и, возможно, старый директор радовался бы по-прежнему жизни…
— Прощай, Шюль, — сказал Штудер хрипло. В горле у него стоял ком.