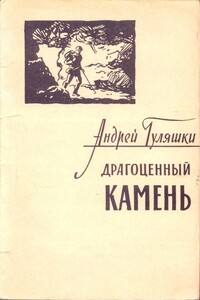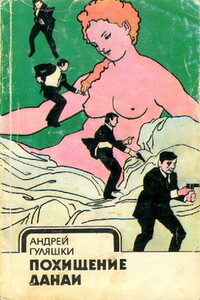Жара изматывала меня и делала медлительным. Я перечитывал показания свидетелей: интуиция подсказывала, что в их хаотичных ответах, путаных признаниях и лживых показаниях кроется нечто такое (пусть на первый взгляд и незначительное), что могло бы привести меня к прозрению. Но, как я ни старался, все равно не мог осознать и постичь это ни разумом, ни сердцем. Я чувствовал себя усталым и мелочно-раздражительным. Раздался резкий телефонный звонок — звонил с проходной постовой милиционер.
— Товарищ полковник, — бодро сказал он, — вас ждет молодой человек. Говорит, ваш зять.
Я неосознанно смял лист бумаги и от волнения почувствовал дурноту. Симеон пришел ко мне в тюрьму!
— Немедленно пропустите его! — Голос у меня дрожал и звучал довольно резко, словно человек, с которым я разговаривал, в чем-то провинился.
Прежде всего я пошел в туалетную и как следует ополоснул лицо. Холодная вода успокоила, ко мне вернулась уверенность. Потом я заглянул в буфет и взял две чашки кофе. Когда я появился в своем кабинете, Симеон расположился в кресле, и я невольно сравнил его с преступником. Это сравнение подтверждало, что во мне сработала профессиональная привычка, хотя сейчас мне предстояло не задавать вопросы, а слушать. На Симеоне были белые джинсы и просторная индийская блуза в сеточку. Он не походил на доцента по физике, на человека, которому подвластны величественные тайны природы; его непосредственность в большом и в малом действительно казалась очаровательной.
— Это и есть храм добродетели? — с нескрываемой иронией спросил Симеон.
— Мой кабинет, — ответил я сдержанно.
— Он выглядит довольно тесным и обшарпанным.
— Это не танцевальный зал. Тут приходится вести беседы, иногда очень неприятные.
Наступила долгая неловкая пауза. Я почувствовал, что кажущаяся выдержка начинает изменять Симеону: он нервничал, хотя и старался держаться непринужденно.
— Я не могу выпить два кофе, возьми себе один, — предложил я. — Сожалею, но у нас не дают джин.
Симеон закурил, и на его мальчишеском лице проступила неподдельная грусть. Я почувствовал, как ко мне снова возвращается надежда, мое тело налилось тяжестью, точно пузырь водой. «А может, у них с Верой все наладится, может, он нуждается в помощи и сочувствии, несмотря на мужское самолюбие?» — подумал я с радостью.
— Ты догадываешься, зачем я пришел? — вяло спросил он.
— Я горжусь своей интуицией, но я не ясновидящий.
— Ты добрый, ты удивительно добрый человек — вот что я хотел сказать!
— Спасибо, хотя не стоило так беспокоиться.
В комнате воцарилось напряженное молчание, будто кто-то воздвиг между нами стену.
— Все, что я наговорил тебе там, на чердаке, непростительно. Вы действительно приютили меня и заботились обо мне как о сыне. А я оказался неблагодарной свиньей. Мне стыдно за все то, что я тогда нагородил, ужасно стыдно.
— Ты чересчур самокритичен. В нашем доме действительно есть что-то такое, как бы сказать... мещанское.
— Я пришел, чтобы извиниться перед тобой, я должен был это сделать, разве не так? Мною руководит не добропорядочность и не желание тебе понравиться. Однако я не могу вернуться к Вере: я ее не люблю и не хочу ее обманывать! Я понимаю, что поступаю жестоко, тем не менее ты не можешь не согласиться, что я поступаю по-своему честно.
Я отпил кофе и с грустью подумал, что надежда оставляет меня, что силы покидают мое тело и оно становится невесомым. Я поймал себя на том, что снова подмечаю детали: у Симеона новые электронные часы, он не носит обручального кольца, на шее у него — золотая цепочка с ключиком.
— Как говорится, сынок, — устало произнес я, — вольному воля. Я пытаюсь понять тебя и простить — ты за этим и пришел, не так ли? Если тебе недостает моего прощения, считай... что получил его! Но я хочу тебе только сказать: ты дважды непростительно, по-глупому мне солгал. Когда неловко припрятал дамскую сумочку там, на чердаке, и вот сейчас. Вдохнуть в кого-то надежду и после забрать ее, как вещь, данную взаймы, — это действительно жестокость. Прощай!