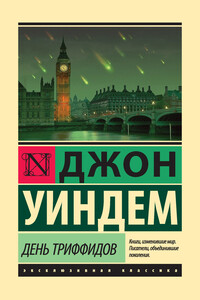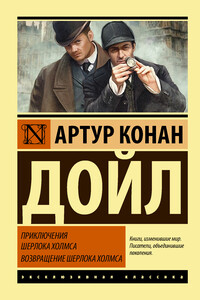Принцип post hoc, ergo hoc[66] имеет множество поклонников, и среди них, боюсь, обнаружится энное количество ученых. Скажем, эмбриологи классического толка довольно долго были убеждены в том, что полная анатомическая история развития плода позволяет объяснить все этапы этого развития и все отклонения.
Справиться с суевериями и предрассудками не очень-то легко. Быть может, разумнее и вовсе не пытаться опровергать астрологические прогнозы, но стоит хотя бы единожды постараться обратить внимание на заведомую невероятность того, что они сбудутся, и указать на отсутствие убедительных доказательств обратного. Хотя, пожалуй, пусть спящие единороги, как говорится, спят дальше: я сам уже давно воздерживаюсь от споров относительно гнутия ложек взглядом или иных манифестаций «психокинеза».
Умудренные опытом ученые и врачи стараются обезопасить себя от угроз, проистекающих из всевозможных предсказаний, проводя эксперимент за экспериментом. Если выясняется, что желаемые условия эксперимента обеспечить невозможно, то все организуется таким образом, чтобы потенциальные ошибки говорили против той гипотезы, с которой ученый экспериментирует. Более того, даже наиболее опытные и уважаемые клиницисты охотно соглашаются на применение метода двойной слепой проверки – когда ни врач, ни пациент не знают, получил ли испытуемый предположительно эффективное лекарство или плацебо, которое выглядит и ощущается на вкус, как это лекарство. При правильно проведенной проверке (и если член медицинской команды не потерял ключ к испытанию) оценка лекарства производится сугубо объективно, на нее не воздействуют ни желания врача, ни надежды или опасения пациента.
Чрезмерные притязания на эффективность конкретного медицинского препарата крайне редко обусловлены сознательным стремлением к обману; обычно они представляют собой плод дружеского заговора, причем каждый из заговорщиков руководствуется исключительно благими намерениями. Пациент желает исцелиться, врач хочет, чтобы он исцелился, а фармацевтическая компания жаждет заработать на том, чтобы исцеление стало возможным. Контролируемые клинические тесты являются способом избежать влияния этого «заговора благих упований».
7
О молодых и зрелых ученых
Молодость при всей присущей ей дерзости страдает от ряда недостатков, и никакое исследование нашей темы не может обойтись без их перечисления и обсуждения.
Избыток самоуверенности
Успех порой оказывает скверное воздействие на молодых ученых. Совершенно внезапно выясняется, что работа других – либо малоинтересная и вторичная, либо выполняется некомпетентно, и молодой ученый начинает требовать, чтобы ему «позволили проверить все самому». Разумеется, на следующем собрании группы он представит подробный доклад. Да, он уже выступал с докладом на прошлом заседании, но многое успело измениться и огромному количеству людей наверняка не терпится узнать о последних подвижках в проекте.
Старомодный способ избавить кого-либо от излишней самоуверенности заключался в том, чтобы как следует огреть нахала по голове надутым мочевым пузырем свиньи; нечто подобное необходимо сделать и сегодня, административными мерами, прежде чем молодой ученый испортит впечатление о себе в глазах тех, кому он нравится и кто желает ему добра.
Блестящие молодые ученые
Пока ученый молод – и демонстрирует вдобавок несомненный дар к исследованиям, – коллеги стараются проявлять терпимость и могут даже гордиться тем, как бесподобно он обрабатывает данные, как его бритвенно-острый интеллект отыскивает связи и устанавливает соответствия между фактами, зафиксированными разве что в «Трудах Национальной академии наук» какой-нибудь банановой республики или в давнишнем выпуске «Гросер энд фишмонгер»[67].
Амбиции
Их принято считать мотивирующей силой, благодаря которой и делаются дела, так что амбиции и амбициозность далеко не всегда представляют собой смертный грех, но избыток амбициозности еще никому пользы не приносил. Амбициозный молодой ученый отличается тем, что у него нет свободного времени ни на кого и ни на что, не связанное напрямую с его собственной работой. Семинары и лекции, не относящиеся напрямую к этой работе, попросту игнорируются, а от людей, желающих обсудить услышанное на этих лекциях, такой ученый отмахивается как от надоедливых зануд. Амбиции же заставляют его проявлять вежливость на грани подобострастия по отношению к тем, кто, как он считает, может ему помочь, – и вести себя крайне грубо с теми, от кого «нет никакого толка». Один молодой оксфордский специалист однажды сказал мне: «Надеюсь, нам не придется с ним возиться»; он имел в виду милого и любезного старичка с любительским интересом к науке, обедавшего с нами в тот день в столовой колледжа. Что ж, надежда этого специалиста оправдалась; такие истории происходят повсеместно, и они показательны, как характеристики конкретного умственного состояния.