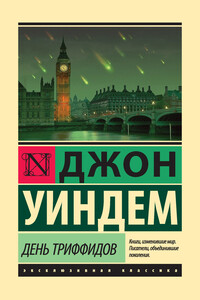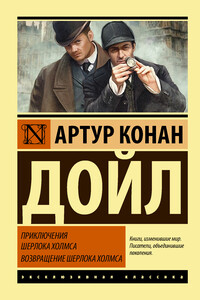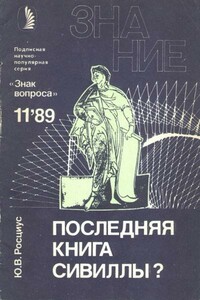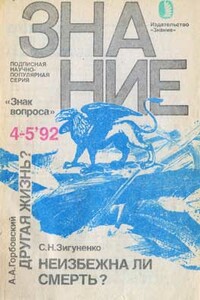Мне неизвестна нация, не породившая ряда замечательных ученых и не внесшая вклада в мировую науку соответственно размерам своей страны. Региональными различиями здесь вполне можно пренебречь по методологическим основаниям, и никакой серьезный ученый не верит в то, что такие различия существуют. Националистические лозунги не входят в лексикон науки. После научной лекции никто ведь не восклицает: «Положительно, он перевернул вверх ногами половину слайдов, но это потому, что он из Югославии!»
В крупных исследовательских учреждениях, наглядно демонстрирующих общечеловеческие успехи, будь то парижский Институт Пастера, Национальный институт медицинских исследований в Лондоне, Институт Макса Планка во Фрайбурге, брюссельский Институт клеточной патологии или Рокфеллеровский университет в Нью-Йорке, крайне редко обращают внимание на национальность сотрудников и тем более придают этому значение. Численное превосходство американцев наряду с их щедростью по финансированию научных изысканий и стремлением организовывать научные конференции по всему миру привело к тому, что ломаный английский сегодня сделался международным языком науки. На международных конгрессах народы и нации различаются не стилем научных исследований, а национальным стилем представления научных докладов. Негромкое и монотонное зачитывание, столь характерное для американцев, разительно контрастирует с громким голосом и «забавными» интонационными перепадами, присущими, по мнению американцев, англичанам – а сами англичане находят комичными по форме представления доклады, с которыми выступают шведы.
Интеллект и национальность
Я верю в концепцию интеллекта[29] и считаю, что существуют наследуемые различия в интеллектуальных способностях, однако мне вовсе не кажется, что интеллект представляет собой некую скалярную величину, которую можно выразить конкретной цифрой (речь о тестах на IQ и прочем подобном)[30]. Психологи, придерживающиеся обратного мнения, в итоге вынужденно пришли к совершенно нелепым выводам, при знакомстве с которыми поневоле предполагаешь, что они призваны напрочь уничтожить репутацию психологии как научной дисциплины.
Использование тестов на интеллект для оценки умственных способностей американских новобранцев в годы Первой мировой войны, а раньше – для пограничной проверки потенциальных иммигрантов в США на острове Эллис, позволило накопить значительный объем недостоверных по своей природе числовых данных, изучение которых ввергло психологов, одержимых IQ, в грех, коего, пожалуй, не искупить. Так, Генри Годдард, изучив интеллектуальные способности потенциальных иммигрантов, заключил, что 83 процента евреев и 80 процентов венгров, ждущих разрешения на въезд, следует признать слабоумными[31].
Подобное отношение к венграм и евреям наверняка сочтут чрезвычайно оскорбительным все те, кто, справедливо или ошибочно, уверен в особой предрасположенности евреев к занятиям наукой, а целое созвездие современных ученых – Томас Балог, Николас Калдор, Джордж Клайн, Артур Кестлер, Джон фон Нейман, Майкл Поланьи, Альберт Сент-Дьёрдьи, Лео Силард, Эдуард Теллер и Юджин Вигнер[32] – говорит, по-моему, кое-что в пользу научной предрасположенности венгров.
Разве такие воззрения являются менее расистскими, чем те, которые по праву осуждает общественное мнение? Нет, они вовсе не расистские, поскольку в них отсутствует даже намек на «генетический элитизм»: венгры – это политическая нация, а не этнос, а что касается евреев, то, при всем обилии у них общих этнических характеристик, имеется множество «внегенетических» причин, по которым они должны преуспевать в науках – тут и традиционное почтение к образованию, и жертвы, на которые готовы идти еврейские семьи ради обучения детей «умным» профессиям, и долгая печальная история самого народа, убедившая стольких евреев в том, что в конкурентном и зачастую враждебном мире наилучшую надежду на безопасность дают именно ученые занятия.
Применительно к этому созвездию венгерских интеллектуалов (многие из которых одновременно евреи по происхождению) всякая мысль о генетических интерпретациях сразу улетучивается, ведь в заочном чемпионате мира среди ученых против них вполне можно выставить аналогичную команду из Вены и ее ближайших окрестностей: Герман Бонди, Зигмунд Фрейд, Карл фон Фриш, Эрнст Гомбрих, Ф. А. фон Хайек, Конрад Лоренц, Лиза Майтнер, Густав Носсаль, Макс Перуц, Карл Поппер, Эрвин Шрёдингер и Людвиг Витгенштейн