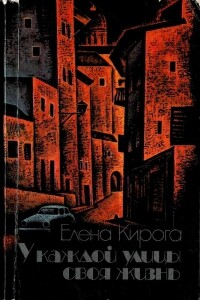Я шел домой в раздумьях, почему наше свободное и вольное в выборе поколение так легко принимает жизнь по режиму «работодатель-сотрудник». Берет, как данное, словно впитывает с молоком матери. Да потому что так и есть! С малых лет нам вбивают в голову, что мы должны получать образование. А почему? Для того, чтобы быть интересными и эрудированными? Стать развитыми? Нет, для того, чтобы работать! На протяжении всего детства, отрочества и юности нас вакцинируют идеей о том, что мы должны работать на кого-то, зарабатывать, чтобы обеспечить будущее своей семье, подарить на старость самому себе пенсию из собственных же налогов. Спору нет, системе это нужно. Но ведь система никогда не мыслит с точки зрения индивида, она заботится о собственной целостности. Нужны уборщики, инженеры, продавцы, учителя, но не все же поголовно, Боже! Нам с детства не дают выбора. И лишь единицы из тысячи доходят до моих мыслей, а еще меньше решаются предпринять что-то за ними следующее.
Почти дойдя до своего подъезда, я резко развернулся и направился в сторону метро. С работы из-за своего состояния мне удалось отпроситься пораньше, поэтому время позволяло сделать то, чего я теперь хотел. Уверенным шагом зайдя в деканат, Наполеон Мрия забрал свои документы из театрального института, чтобы не вернуться туда больше никогда. Войдя в квартиру и швырнув на стол аттестат, я прильнул губами к синтезатору и сказал:
– Теперь никто не будет ставить мне рамки по поводу того, каким образом мои пальцы будут ложиться на твои клавиши!
Давно мне не было так легко. Помимо эйфории от первого сделанного шага в сторону изменения своей судьбы, душу грел дополнительный факт: мне больше негде будет видеться с Лолитой.
А что же дальше? Ну, придется стать одним из лучших сотрудников, терпеть график и обязанности ради повышений, затянуть пояс, но копить, копить по пути к своей цели.
И в таком ключе система стала мне уже не столь ненавистна, ведь я собирался воспользоваться ею, чтобы потом, взяв все необходимое, внезапно предать. Как предавали меня, точно так же отнимая все самое ценное. А что может быть для системы дороже денег, ха? Разве что целостность… Но один отщепенец будет всего лишь мелкой царапиной на этом огромном, гниющем теле.
Так началась моя фанатичная жизнь. В банке все не могли на меня нарадоваться – я кипел, выдавал идеи, перерабатывал и стал с виду страшным трудоголиком. К тому же мой образ жизни стал совершенно аскетичным: я только работал, ел, читал и спал. Никаких удовольствий, только самая необходимая одежда, исключительно техническая литература по звуковому оборудованию и музыкальным программам. Недопустим был любой субъективный взгляд на искусство с точки зрения какого-нибудь автора или критика – одна лишь голая теория. Музыку я слишком хорошо чувствовал сам. Ни о каком автомобиле не могло быть и речи. Все мои доходы откладывались на депозит в мой же собственный банк на условиях, намного более выгодных, чем у простых клиентов.
Не успел я и глазом моргнуть, как прошло полгода. Мой пыл не утихал, и только одно обстоятельство портило всеобщую картину моего движения к счастью – отец был совсем плох. Он чах на глазах. Я видел, что его убивают сигареты, но менять что-то на такой стадии уже было поздно, поэтому я не стал лишать его этой гадкой радости. А чем больше папа кашлял, тем яростнее он курил. В ноябре мы подтвердили давно ожидаемый мною рак легких, а за неделю до Нового года отец слег в больницу с постоянно вылетающими из горла сгустками черно-красной дряни.
Мы оба все прекрасно понимали. Да и врачи, видя наше восприятие, ничего не скрывали. Я только попросил не называть сроков. Отец совсем отощал, глаза и щеки впали, но каждый раз, просыпаясь и видя меня рядом, он улыбался, и в его глазах сияло настоящее счастье.
– Знаешь, сын, – как-то заговорил папа, проснувшись посреди ночи, – у меня была достаточно никчемная жизнь. Несколько пустых женщин, наука да телевидение, в котором я всегда за кадром. Никаких путешествий, банкетов в мою честь, да и вообще рассказать нечего толком… – он засмеялся, а потом этот хохот перерос в неистовый кашель, который каждым толчком пораженных легких вонзал мне нож в сердце. Я вытер салфеткой слизь с губ отца и сел рядом с ним, взяв его за руку.