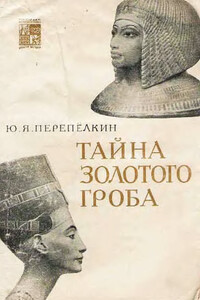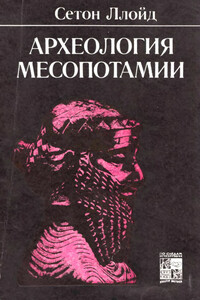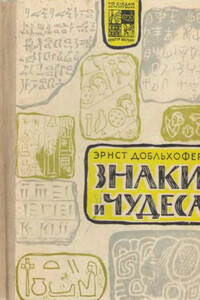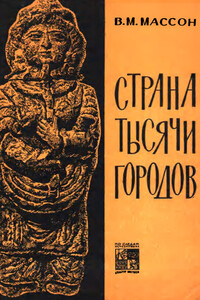Термин gê, который употребляется для обозначения «долины» Секака (21 пункт описи), характеризует узкое ущелье, глубокое горное ущелье, лощину в отличие от термина 'ëmeq, служащего для обозначения долины Ахор. В других же значениях эти термины совпадают. Пункт Секака, как мы вправе заключить, находился возле лощины и дал ей название; сама же лощина — как следует из содержания пункта 25 описи — была в свою очередь частью вади, носившего название Киппа’ и, по всей вероятности, пересекавшего долину Ахор. После подобных рассуждений возможности выбора значительно сужаются.
В начале главы мы обращали внимание читателя на то, что древний писец для обозначения мест захоронения сокровищ нередко употребляет, несомненно в целях сохранения тайны, сходные и синонимичные по смыслу названия. В связи с этим нам придется исходить из двух следующих посылок:
1) если в свитке встречается хорошо известное по другим источникам название какого-либо места, значит в I веке действительное его название почти вне всякого
сомнения было другим;
2) наоборот, если название какого-либо места, упомянутое в свитке, не приводится больше ни в литературе, ни в преданиях, мы, весьма вероятно, имеем дело с псевдонимом или синонимом хорошо известного названия.
К последней категории названий следует отнести Киппа’, или Kippah в древнееврейской форме. В качестве имени собственного слово нигде больше не встречается, однако известно существительное того же корня со значением «свод», «арка», «портал» или ему подобным, а глагол КРР переводится обычно «наклонять», «сгибать». Точным синонимом КРР является древнееврейский и арамейский корень QMR, от которого происходит имя существительное qimrôn «сводчатый потолок».
Теперь обратим внимание на более чем вероятную связь между именем qimrôn и не имеющим смыслового значения арабским названием местности Кумран, его фонетическим эквивалентом (ср. 'Ammôn Ветхого завета и современное 'Амман). Таким образом, в I в. вади, широко известный со времени открытия свитков Мертвого моря, в действительности назывался, очевидно, Кимрōн, и это название дожило до наших дней в его арабской форме. Остается решить, в каком месте вади располагался город Секака. Возможностей для выбора остается не так-то много: город должен был лежать в лощине или близ нее, и к нему с востока должна была вести «дорога» вдоль вади (пункт 25). Пожалуй, для локализации вполне годились бы развалины Хирбет аз-Зараник у западного конца вади, в том месте, где поток извергается с холмов Иудеи (рис. 3), однако недавно проведенные здесь раскопки не обнаружили никакого поселения ранее V века н. э. В то же время употребление нашим писцом ветхозаветного названия Секака означает, по-видимому, что место, которое он упоминает, считалось местом древнего поселения, а Хирбет аз-Зараник в те далекие времена вообще не было обитаемым..
Таким образом, единственной реальной возможностью является локализация нашего Секака в самом Хирбет Кумран, т. е. там, где был расположен монастырь ессеев. Дело не только в том, что отдельные ориентиры, упомянутые в тексте нашего свитка, удивительнейшим образом совпадают с данными раскопок, проведенных в селении, но, и, как теперь ясно, в том, что ессеи возвели свой храм на еще более ранних постройках, датируемых ветхозаветным временем.
Эта идентификация важна не только для обнаружения захороненных сокровищ. Не будет большим преувеличением сказать, что если бы даже наш свиток не сообщил ничего другого, кроме этого, то и тогда его двухтысячелетнее хранение, время и усилия, потраченные на раскрытие и дешифровку, были бы оправданы. Следуя нашему принципу подозревать существование семантического дублета любого названия, упоминаемого нашим писцом, мы обязаны поставить под сомнение, было ли название Секака общеупотребительным названием Кирбет Кумрйна в I веке н. э. Глагольный корень SKK довольно часто встречается в Ветхом завете со значением «затемнять», «покрывать»; его синоним — корень SLL «заслонять», и искомый дублет, быть может, как раз и скрывается за названием, производным от этого синонимичного корня, и без труда поддается идентификации. Такое название впервые встречается в апокалиптическом отрывке из Книги Захарии, который, должно быть, имеет отношение к ессеям в Кумране. «Видел я ночью, вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в Mesillah»