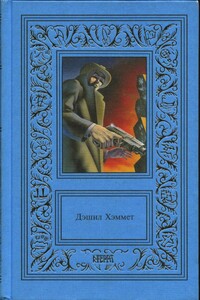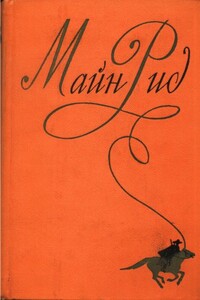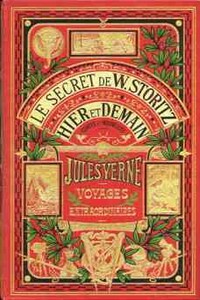Нет пытки горше, чем муки ревности, уязвленного самолюбия и страсти, обманутой в лучших надеждах. Я испытал в свое время горечь стыда за некрасивый поступок по отношению к товарищу, прошел через все унижения, связанные с денежным крахом. Мне случалось глядеть в лицо смерти, но все эти переживания бледнеют перед ревностью, которая жалит, как змея, медленно растравляя рану.
Я оглушил себя вином, покидая бал, и продолжал «алкогольное лечение» на квартире. Такой ценой я купил себе сон, непродолжительный, к сожалению.
Проснулся я задолго до рассвета и вновь очутился во власти ревности, к которой присоединились физические страдания: омерзительный напиток, продававшийся в нашей, кантане, ударил мне в голову. Мозг горел, железный обруч сжимал виски. Даже большая доза опиума не могла бы меня усыпить, и я метался на постели, как тяжелобольной в бреду.
В сознании вспыхивало все пережитое за вечер. Напрасно отгонял я назойливые воспоминания, пытаясь сосредоточиться на чем-нибудь постороннем: мысли вращались в заколдованном кругу, в центре которого стояла Изолина.
Я перебрал в уме все, что она мне говорила, вник в каждое слово. Как презрительно она рассмеялась, сняв первую маску, и уничтожающе на меня взглянула, освободившись от негритянской личины.
Сама красота ее была мне обидой.
До сих пор я надеялся, после маскарада — все рухнуло…
Все рухнуло. Кипела досада. Минутами я ненавидел Изо-лину, обдумывая месть.
Но успокаивалась желчь, и снова мелькал очаровательный образ, вновь восхищался я твердым и благородным характером мексиканки — и страсть побеждала обиду.
Я спрашивал себя: за что ее люблю? Изолина, несомненно, была красавица, но корни очарования таились глубже.
Если бы не наш словесный поединок, познакомивший меня с умом и характером мексиканки, я мог бы пройти равнодушно мимо. Решающим моментом были внутренние достоинства. Та же самая жемчужина в другой оправе не привлекала бы моего внимания.
При этом чувство мое было бескорыстным.
Влюбился я беспричинно, а теперь любил безнадежно. До роковой ночи я еще строил воздушные замки: прощальный взгляд с башенки гасиенды, записка, вскользь брошенное слово и другие мелочи позволяли ждать и надеяться… Случай на балу был катастрофой.
Над изголовьем моим с мрачной угрозой склонялся Ихурра. Даже во сне я видел его рядом с Изолиной.
Что общего между ними? Может, они помолвлены? Эта мысль сводила меня с ума.
Не выдержав, я вскочил с постели, поднялся на азотею и зашагал по ней. Мысли мои были сумбурны, движения — беспорядочны.
Ко всему этому прибавилось неприятное открытие: я обнаружил потерю. Потерял я не деньги или какую-нибудь свою вещь, но официальную бумагу, к которой была приложена секретная записка.
Тем хуже для меня! Пропал приказ из главной квартиры и записка дона Рамона. Скорей всего, я обронил их в день получения, во дворе гасиенды, где бумаги не могли не подобрать. Если они попали в руки дона Рамона, все великолепно, но, если их перехватит один из пастухов, с ног до головы одетых в кожу, при враждебности этих людей к крутому хозяину дело может принять скверный оборот и для старика, и для меня. В лучшем случае штаб посмотрит сквозь пальцы на мою оплошность.
Так или иначе, будут осложнения. Беда не приходит одна.
Но чем хуже, тем лучше! Пусть сгущается мрак. За ним нас ждет просветление. Нет такой дурной погоды, которая не сменилась бы хорошей, — таков закон физического и нравственного мира.
Просвет был близок.
Глава XIV
СТРАННОЕ ПОСЛАНИЕ
Я едва притронулся к утреннему завтраку. По мексиканскому обычаю он состоял из чашки шоколада и посыпанного сахаром хлебца. Рюмочка коньяку и сигара благотворно подействовали на разыгравшиеся нервы.
В это утро, к счастью, я был свободен от службы, — к счастью, говорю я, потому что, наверное, погрешил был против устава.
Я поднялся на азотею, но меня не интересовало то, что происходило вблизи. Я не видел на площади ни рейнджеров, которые чистили лошадей, ни пастухов в полосатых плащах с капюшонами, ни торговок-индианок, сидевших на корточках вокруг колодца, ни деревенских девушек.