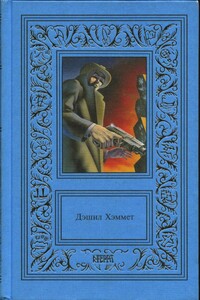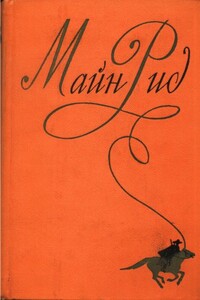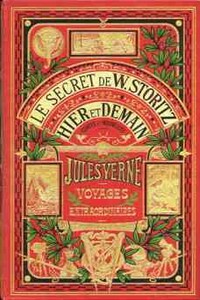Любопытство мое достигло апогея. Страстно хотелось увидеть лицо собеседницы.
Она очаровала меня своей болтовней. Я и в мыслях не допускал, что она дурнушка. Такому остроумию должно соответствовать прекрасное, тонкое лицо. Наконец, стройность стана, маленькие руки и ноги, нежный, гармонический голос и лучистые глаза, глядевшие в прорези маски, — все обещало красоту.
— Сударыня, — произнес я, отбросив шутки, — умоляю вас, снимите маску! Если б не бальный зал, я опустился бы на колени.
— А если я исполню вашу просьбе, вы холодно удалитесь. Вспомните желтое домино…
— Вам, кажется, приятно меня мучить? Неужто я способен на такую бестактность! Допустим, вы не красавица в общепринятом смысле слова, однако, сняв маску, вы сохраните искусство беседы, чудесный тембр голоса и грацию движений: все это от вас не отделимо. Разве может быть безобразной столь богато одаренная женщина? Пусть, наконец, лицо ваше черно, как у той незнакомки в желтом домино, я этого даже не замечу.
— Так ли, сударь? А не будете ли вы раскаиваться?
— Клянусь!
— Не клянитесь впустую. Уверяю, что при всех достоинствах, которыми вам угодно было меня наделить, я в своем роде пугало, и вы от меня отшатнетесь.
— Быть не может! А голос, а прелесть движений? Снимите маску! Заранее примиряюсь с тем, что увижу.
— Пусть будет по-вашему, но я хочу, чтобы вы наказали себя за любопытство своей же рукой.
— Благодарю вас!
Дрожащими пальцами развязал я шнурок маски и выронил ее, словно обжегся.
Не изумление, но ужас был мне наградой за мою настойчивость: опять негритянка с толстыми губами, выдающимися скулами и завитками курчавых волос.
Я растерялся. Галантность мне изменила. Рухнув на диван, я не мог вымолвить ни слова.
Собеседница, вполне подготовленная к тому, что произошло, была далека от смущения. Громко расхохотавшись, она съязвила:
— Ну, как, господин поэт? Вас вдохновляет мое лицо? Скоро ли будут готовы стихи?.. А, сударь! Подозреваю, что вы такой же невежа, как ваш драгунский офицер.
Негритянка смеялась.
Я сгорал от стыда за свое нелепое поведение, был уязвлен справедливыми упреками и ничего не нашелся ответить. На звонкий смех лукавой негритянки пробормотал я что-то невнятное и, беспомощно жестикулируя, отошел в сторону.
Еще ни с кем в жизни я так неловко не прощался.
Я пошел, вернее, поплелся к выходу, намереваясь покинуть бал и ускакать домой.
Но на пороге залы любопытство одержало верх, и я решил в последний раз взглянуть на странную эфиопку.
Женщина в голубом домино по-прежнему сидела на диванчике в нише окна, но какая потрясающая неожиданность: вместо кофейной негритянки — Изолина!
Я глаз не мог отвести от милого лица, и она на меня смотрела, но с каким уничтожающим выражением. Никогда не забуду ее презрительно искривленных губ.
Вернуться? Объясниться? Нет, слишком поздно! Пасть на колени? Молить о прощении? Нет, поздно, поздно! Я утоплю себя окончательно, покажусь вдвойне смешным.
Но раскаяние, которое она прочла на моем лице, оказалось красноречивее слов. Изолина как будто смягчилась. Уже не так суров был ее взгляд. А может, я ошибся?
В это мгновение кто-то подошел к ней и бесцеремонно уселся рядом. Это был Рафаэль Ихурра.
Они разговорились. Я наблюдал за ними. Я хотел, чтобы Ихурра допустил некорректность по отношению ко мне: какую-нибудь дерзкую улыбку, чтобы он указал на меня глазами Изолине, явно надо мной насмехаясь. Тогда я разрядил бы свою досаду, проучив наглеца.
Но Ихурра не улыбнулся. Изолина, должно быть, не посвятила его в случившееся. Этим она спасла Ихурру. Женский такт удержал ее от болтливости: она угадывала опасность.
Оба встали. Изолина надела маску. Ихурра повел ее к танцующим. Вот они закружились под звуки скрипки, исчезли в пестрой толпе.
— Буфетчик, вина!
Выпиваю залпом бокал, проталкиваюсь к вестибюлю, надеваю плащ, пристегиваю шашку, разыскиваю коня.
Я скакал во весь опор. На душе скребли кошки. Голова пылала.
Однако прохладный ветер ночи, бодрящая скачка и неуловимые жизненные токи, пробегавшие между мной и любимой лошадью, доставили мне облегчение. Понемногу я успокоился.