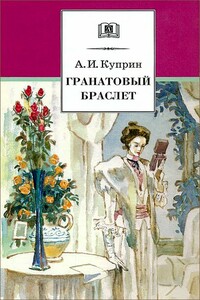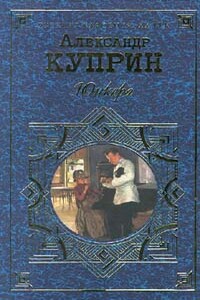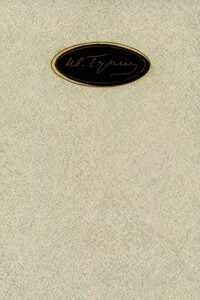Вокруг политически острых картин повести разгорелась полемика. Консервативная военщина на страницах «Русского инвалида», «Военного голоса», «Разведчика» и других официозов обвинила Куприна в клевете на русскую армию. Ополчились на «Поединок» и штатские черносотенцы: обличение военной бюрократии в повести Куприна перерастало в отрицание всего самодержавного строя, завершалось призывом к свободе от сословного и классового гнета. Черносотенные «Московские ведомости» писали после выхода «Поединка» Куприна и «Страны отцов» Гусева-Оренбургского, что «сборники „Знания“ вычеркивают у нас из списка жизнеспособных одно сословие за другим». Декадентские «Весы» призывали бороться с «развращающим» влиянием «Знания». Охранительная печать единодушно объявила Куприна «последышем» Горького.
Действительно, годы 1903–1906 явились временем наибольшей близости Горького и Куприна. В письмах этих лет Куприн часто говорит о Горьком, восторженно приветствует поэму «Человек», ставшую манифестом «знаньевцев». Осенью 1904 года Горький и Куприн вместе работают над составлением сборника воспоминаний о Чехове, и Горький отмечает общность их переживаний: к горечи утраты примешивается возмущение против пошлости, коснувшейся светлой памяти Чехова. «Сильно, очень сильно понравились Вы мне Вашей глубокой, искренней скорбью о Чехове! — писал тогда Горький Куприну, — почувствовал я в Вас хорошую душу… почувствовал хорошего товарища, и как-то сразу явилась во мне уверенность, что Вы будете крупным, чутким писателем».
В 1905 году Куприн, по предложению Горького, участвует в «Нижегородском сборнике», изданном «Знанием» в пользу социал-демократической партийной кассы. Имя Куприна соседствует с именем Горького в сатирических журналах «Жупел», «Адская почта», во многих благотворительных сборниках. Присутствовал Куприн и на чтении Горьким пьесы «Дети солнца» в «Пенатах», участники которого были тогда зарисованы И. Е. Репиным. Куприн был первым, выступившим в печати с разбором и высокой оценкой этой пьесы Горького.
Горький проявлял большой интерес к работе Куприна над повестью «Поединок». Куприн долго не решался приступить к созданию крупной вещи. «И только влияние Алексея Максимовича, знавшего план задуманного Куприным романа, заставило его, отбросив колебания, начать писать „Поединок“», — вспоминает М. К. Куприна-Иорданская. Из переписки Куприна с издателем «Знания» К. П. Пятницким, которому, по мере написания, посылались главы «Поединка», видно, что Куприн получал от Горького конкретные указания, не раз советовался с ним по поводу повести. Прочную связь с Горьким в процессе создания «Поединка» Куприн закрепил и в посвящении его Горькому и в известном письме к нему, написанном накануне выхода в свет шестого сборника «Знания», где объяснял «все смелое и буйное» в повести горьковским воздействием.
В письме к Е. П. Пешковой, написанном до выхода в свет «Поединка», Горький отозвался о нем с большой похвалой. Прочитав повесть Куприна, В. В. Стасов назвал ее жемчужиной.
А. В. Луначарский посвятил «Поединку» специальную статью, опубликованную вскоре после появления шестого сборника «Знания».
Высокая оценка повести Куприна представителями передовой общественной мысли объяснялась тем, что актуальное и важное содержание сочеталось здесь с высокой художественностью. «Поединок» явился высшим достижением критического реализма в демократическом искусстве эпохи первой русской революции.
Выйдя за рамки военной темы, повесть Куприна вобрала в себя важные социальные, политические и этические проблемы своего времени. На пути идейного и духовного роста героя, протестующего правдоискателя, вставали вопросы о причинах классового неравенства и путях освобождения от гнета, о взаимоотношениях личности и общества, о связи интеллигенции с народом, о смысле жизни и назначении человека.
Отражая процесс политического пробуждения простого человека, Куприн обнаружил большое мастерство изображения «диалектики души», его внутреннего роста.
Поначалу косная армейская среда подавляет «новичка» Ромашова. Мы видим, как гаснут в душной атмосфере казармы стремления юноши к осмысленной, полезной людям жизни. Робкий, конфузливый поручик с его нелепыми мечтаниями и запинающейся речью, который трепещет перед сильными мира сего и втайне завидует их блестящей, беззаботной жизни, походит на приниженного «маленького человека», изображенного Куприным в произведениях 90-х годов. В первых главах повести готова повториться излюбленная тема Куприна-гуманиста: естественное, здоровое начало в человеке искажает уродливая социальная среда.