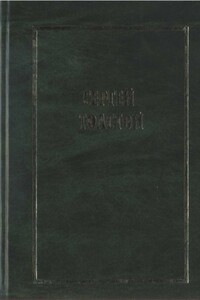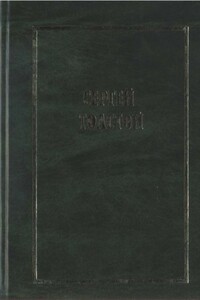— Это почти человек, — ответил я.
— Что?
— Почти человек, я хочу сказать нечеловек, яснее говоря.
— Ах, зо! — догадался Франк. Вы хотите сказать — юберменшь, нихьт вар?[146] — Да, Гитлер — нечеловек, яснее говоря. Это юберменшь.
— Герр Малапарте, — пояснил в этот момент один из сотрапезников, сидевший на краю, — герр Малапарте писал в одной из своих книг, что Гитлер — женщина.
Это был начальник Гестапо генерал-губернаторства Польши, человек Гиммлера. Его голос был холодным, мягким, печальным — отдаленный голос. Я поднял глаза, но у меня не хватило смелости посмотреть на него. Этот голос — холодный, мягкий, печальный, этот отдаленный голос, заставил мое сердце приятно задрожать.
— В самом деле, — сказал я после секунды молчания, — Гитлер — женщина.
— Женщина? — воскликнул Франк, пожирая меня глазами, полными оцепенения и подозрительности.
Все умолкли и смотрели на меня.
— Если это не человек, яснее говоря, то почему бы ни быть ему женщиной? — спросил я. — Женщины заслуживают нашего полного уважения, любви, нашего восхищения. Вы говорите, что Гитлер — отец немецкого народа, нихьт вар? Почему бы он не мог быть его матерью?
— Его матерью?! — воскликнул Франк. — Ди Муттер?[147]
— Его матерью, — повторил я. — Ведь это матери зачинают сына в утробе своей, в муках рождают его, вскармливают своей кровью и своим молоком. Гитлер — мать нового немецкого народа; он зачал его в своей груди, родил в муках, вскормил своей кровью и сво…
— Гитлер — не есть мать немецкого народа, это — отец! — сказал Франк сурово.
— Кем бы он ни был, — закончил я, — но немецкий народ — его сын. Это вне сомнения.
— Да, согласился Франк, — это вне сомнения. Все народы новой Европы, и поляки в первую очередь, должны были бы испытывать гордость, что они имеют в Гитлере отца, справедливого и сурового. Но знаете ли вы, что о нас думают поляки? Что мы — варварский народ.
— И это вас обижает? — спросил я, улыбаясь.
— Мы — народ господ, а не варвары: мы Херрен вольк.
— Ах, не говорите этого!
— Почему же? — спросил Франк в глубоком изумлении.
— Потому что господа и варвары — это одно и то же, — ответил я.
— Я не согласен с вами, — сказал Франк. Мы — Херрен вольк, а не народ варваров. Разве вам кажется, сегодня вечером, что вы находитесь среди варваров?
— Нет, — ответил я, — но среди господ. И я добавил, улыбаясь: «Должен признать, что входя в Вавель сегодня вечером, у меня было впечатление, что я вхожу во дворец итальянского Ренессанса».
Улыбка триумфатора озарила лицо немецкого короля Польши. Он поворачивался во все стороны, озирая одного за другим всех сотрапезников взглядом, полным горделивого удовлетворения. Он был счастлив. А я именно и ожидал, что мои слова сделают его счастливым. В Берлине, перед моим отъездом в Польшу, Шеффер, сидя в своем бюро на Вильгельмплаце, смеясь, советовал мне: «Старайтесь не иронизировать, когда будете говорить с Франком. Это смелый человек, но он не понимает иронии. Если же вы уж никак не сможете удержаться, не забудьте сказать ему, что он — сеньор эпохи итальянского Ренессанса. Он простит вам все погрешности вашего ума». Я вовремя вспомнил совет Шеффера.
Я сидел за столом Франка, немецкого короля Польши, в старинном королевском дворце Вавеля в Кракове. Франк сидел передо мной на стуле с высокой спинкой, непреклонный, как будто он сидел на троне Ягеллонов[148] и Собесских[149], и казался совершенно убежденным, что он воплощает великие королевские и рыцарские традиции Польши. Наивная гордость озаряла его лицо, со щеками пухлыми и бледными, на котором орлиный нос изобличал волю, полную гордыни и подозрительности. Его черные блестящие волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб белизны слоновой кости. Было нечто в нем старческое и гибельное: в его мясистых губах, надутых, как у рассерженного ребенка, в его толстых веках, тяжелых и, быть может, слишком больших для его зрачков, в его манере держать глаза полузакрытыми, отчего на висках у него появлялись две прямые и глубокие морщины. Кожа его лица была покрыта легкой сеткой пота, которую свет больших голландских люстр и выстроенных на столе серебряных шандалов, отраженных в хрустале из Богемии и в саксонском фарфоре, заставляли блистать так, как если бы все лицо его было покрыто целлофановой маской.