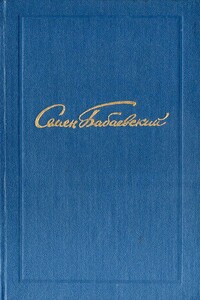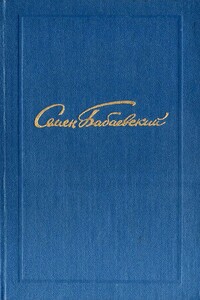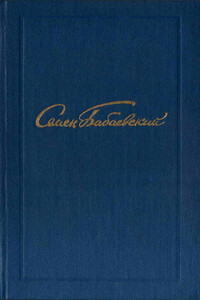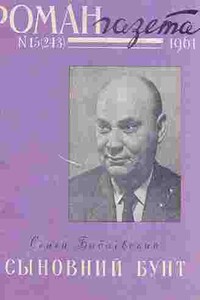На точкé давно уже текла своя, ничем особенным не примечательная жизнь. Курились очаги. Вместе с дымом к пруду тянулся запах подгоревшего сала. Кто готовил для себя завтрак. Кто нес к себе в курень воду в ведре. «Живут артелью, а едят каждый свое, — подумал Холмов. — Организовать бы общую столовку. Было бы и вкусней и дешевле…» Тот мужчина, что вчера выстругивал ложку, осматривал мотоцикл, наверное собираясь ехать по какому-то своему делу. Монастырский в тех же спадающих трусах ходил по пасеке и осматривал ульи. А пчелы уже торопились к цветкам. Снова, как и вчера, рябило небо, и снова тянулись по нему нити, поблескивая под лучами солнца, и снова недоставало челнока.
Боясь показаться в глазах пчеловодов бездельником, Холмов отправился в поле. Без всякой цели, просто так, побродить. Шел мимо скошенной пшеницы. Она лежала в валках и просила подборщика. Видно, прошло немало дней, как она лежала на стерне. Ее уже прибило к земле дождями, она уже начала прорастать травой, и колосья кое-где почернели. «Какое безобразие, ведь гибнет хлеб — и какой хлеб! — думал Холмов, остановившись перед валками. — Кто они, эти бесхозяйственные руководители, что не могут убрать зерно? Надо узнать, кому принадлежат эти хлеба, и поехать в райком. Это же черт знает что». Шел и думал о том, как он сегодня же узнает, какому колхозу или совхозу принадлежит эта пшеница, и сам примет меры, чтобы ее убрали.
С этими мыслями он подошел к подсолнухам. Они стояли стеной, как один, повернув к солнцу свои нарядные головы, и на их шершавых листьях-ладонях еще хранились росинки. Холмов раздвинул руками стену, сверху желтую, а снизу серую, и пошел по рядку. Ему в глаза смотрели ярчайшие шляпки с золотистой кашкой и с оборочками желтых лепестков. Пчелы, не боясь Холмова, липли к шляпкам, хоботками отыскивали чашечки-цветки. Оттого, что вокруг было столько цветов и столько света, на сердце у Холмова стало покойно, и он от радости, как ребенок, прижался к подсолнуху небритой щекой, ощутив приятную свежесть.
Сколько раз за свою жизнь Холмов бывал в поле и сколько раз видел подсолнух в цвету! И ни разу еще не чувствовал ни того душевного волнения, какое поднялось в нем, ни той радости, какую ощущал он теперь. В ту минуту, когда щека коснулась цветка, сердце его тревожно забилось и повлажнели глаза… «Что это со мной? — подумал Холмов, шагая по рядку и раздвигая руками и грудью упругие стебли с яркими шапками. — Слезы? Что это я вдруг растрогался? Такого со мной еще не бывало…»
Он ускорил шаги. Шляпки, одна краше другой, качались, толкали его. Огоньками падали под ноги лепестки, и пыльца от них, как тончайший желтый туман, пудрила лицо и оседала на его белую голову. Идти было тяжело. Он опустился на сухую комковатую землю. Лег навзничь и ощутил тишину. Необычную, такую тишину не встретить нигде. Покой, безмолвие. От земли поднимался густой, настоянный на солнечном тепле запах подсолнечных цветов. Утолщенные у корня стебли были прошиты лучами, нижние листья пожухли и шелестели, как бумага. Шляпки, яркие с лица, с тыльной же стороны были бледные, будто слеплены из стеарина.
Над цветами высокое синее небо, и плыл по нему, вращаясь по кругу, беркут. Не сгибая крыльев, не взмахивая ими, он кружил и кружил, и красное оперение, попадая под луч солнца, точно вспыхивало. «Вот кому от души можно позавидовать! — думал Холмов, не отрывая взгляда от беркута. — Какая высота и какой перед ним простор! Гордая птица! А я вот лежу… Покой и на земле, покой и в теле. Может, так и остаться одному в этом царстве цветов и тишины? Слиться и с покоем, и с этими солнечными бликами, и с этим идущим от земли теплом? Слиться и уже никогда не подняться? А тогда что? Всему конец?..»
И впервые здесь, в подсолнухах, его испугала мысль, что никогда уже он не вернется к тому делу, каким занимался всю жизнь, никогда не испытает того душевного волнения, какое испытывал раньше, и что уже никогда не будет тем Холмовым, каким люди знали и любили его. А будет Холмов пасечником. Станет смотреть за пчелами, качать мед, и потечет его жизнь ровно, спокойно, и не будет на душе ни радостей, ни печалей. «Нет, нет, и пасека, и мед из цветков шалфея, и все, что тут есть прекрасного, что успокаивает нервы и лечит от всех болезней, не для меня, — с затаенной надеждой думал Холмов. — Я еще больше понимаю теперь Маню Прохорову, ее слова о том, что мы не можем жить без дела и без душевных тревог. Как ни хорошо на пасеке, но и эта устоявшаяся тишина, и этот мирный покой, вижу, не для меня, и жить тут я не смогу. Мне надо вернуться к своему делу, обязательно вернуться. Без этого мне не жить, и люди еще должны увидеть того, знакомого им Холмова. И непременно увидят!»