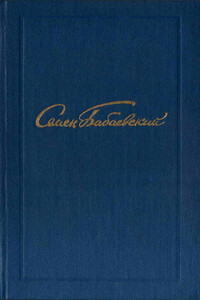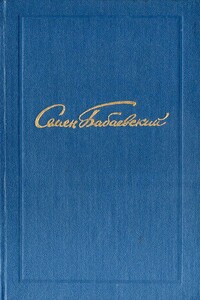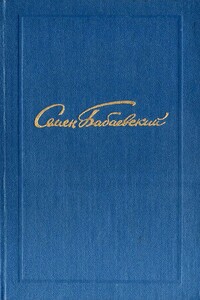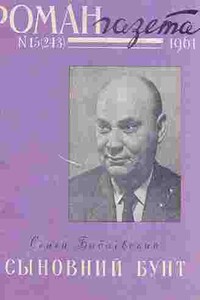— Не чужие, а ваши, — польщенный похвалой, уточнил Чижов, не сводя радостных глаз с Холмова, — Ваши мысли для меня не чужие.
— Ты всегда, Виктор, преувеличиваешь.
— Это, Алексей Фомич, образ! Сказать, метафора!
Холмов смотрел на своего бывшего помощника и видел его добрые, доверчивые глаза. Стало неприятно оттого, что раньше глаза Чижова были обычными глазами, а теперь вдруг приобрели это странное, умиленно-ласковое выражение.
— Да, Виктор, точно, я думаю о Береговом, — сказал Холмов. — И не вообще о Береговом, а конкретно о том, есть ли в городе хорошая библиотека. Как думаешь, есть?
— Непременно! — ответил Чижов. — Вы же знаете, Алексей Фомич, что в нашей стране нет такого города, в котором не было бы хорошей библиотеки. Но у вас же есть и свои книги.
— У меня только сочинения Ленина и еще кое-что, а мне потребуется много книг. — Он морщил лоб, прижимал ладонь к затылку. — Еще в Южном я собирался посмотреть, что говорит Ленин о значении личности в истории и о роли масс и вождей. — Переменил ладонь, подождал, пока Чижов записывал. — Подбери нужные страницы.
— Понимаю. Будет сделано! — Чижов не отрывал карандаша от записной книжки, ждал. И опять его угодливо-ласковый взгляд смутил Холмова. — Еще что?
— Пока все.
— Как ваша голова, Алексей Фомич?
— Затылок раскалывается. — Болезненно усмехнулся: — Беда! Уже и таблетки не помогают.
— Может, примете нашего лекарства? — Чижов облизал губы. — «Юбилейный», как вы помните, помогал.
— А ты припас?
— Как же! Имеется в «Чайке». «Юбилейный» расширяет сосуды.
— Неси!
Чижов побежал к «Чайке», взял корзинку, сплетенную из тонкого хвороста, и принес ее на веранду. Вынул из корзинки бутылку «Юбилейного», завернутые в бумагу рюмки. Но тут на веранде появилась Ольга. Зло покосилась на Чижова и на мужа, молча взяла бутылку, рюмки и удалилась. Тотчас вернулась и, стоя в дверях и с трудом удерживая слезы, сказала:
— Стыда у тебя нет, Виктор! Нашел чем поить больного человека!
Чижов слегка наклонил голову и ушел. А Ольга прислонилась к стене и беззвучно заплакала. Холмов видел ее вздрагивающие плечи и не знал, сказать ли ей, что Чижов тут ни при чем, или утешать ее, или лучше всего промолчать. Поплачет и успокоится. Он хорошо знал, что Ольга любила держаться независимо и имела привычку, желая подчеркнуть эту свою независимость, называть мужа не по имени, а по фамилии. И дома и на людях как бы хотела показать, что и она, его жена, как и те, кто подчинен ему по работе, считает Холмова тем человеком, к которому нельзя обращаться по имени — Алексей или Алеша, а следует называть его либо Алексей Фомич, либо Холмов. Она говорила: «Вот и Холмов приехал!», «Холмов, садись обедать», «Холмов, ты когда сегодня вернешься с работы?» Холмов терпеть не мог этой привычки жены.
— Оля, ну что ты все — Холмов да Холмов? — говорил он. — У меня же имя есть!
— Знаю. Но мне так нравится! — отвечала она. — А ты не сердись, Холмов. Называть тебя по фамилии — Холмов — просто и красиво!
За всю их длинную совместную жизнь Ольга не раз упрекала мужа, или давала ему какие-то советы, или что-либо подсказывала.
Холмов считал, что лучше не говорить с Ольгой теперь, когда она стояла рядом и плакала. Начнет корить, упрекать, и, чего доброго, тут, на новом месте, и в первый же день они поругаются. И он не стал ни говорить с плакавшей женой, ни успокаивать ее. Склонился, обнял руками голову, чувствуя, как тупая, непрерывная боль от затылка переходила к ушам, так что ушные раковины нельзя было тронуть. Ему казалось, что вот так, согнувшись в шезлонге, он успокоит боль и успокоится сам. Но он слышал всхлипывания жены, ее частые вздохи, шумное сморкание в платок, и оттого, что он это слышал, боль в затылке не только не уменьшалась, а усиливалась. «Уснуть бы, уснуть бы, — думал он, сжимая руками голову. — И проснуться где-то далеко-далеко, на незнакомом берегу, в хижине, и чтобы на десятки верст вокруг ни души. Одно только море да я…»