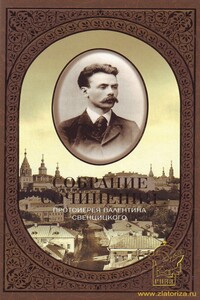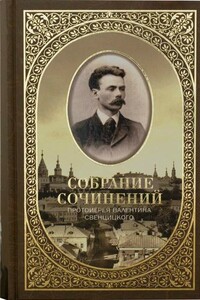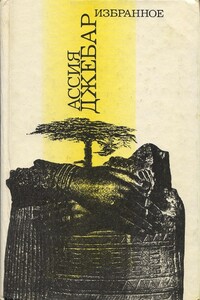Собрание сочинений. Том 2. Письма ко всем. Обращения к народу 1905-1908 - страница 88
Но другие, слепорождённые, желают остаться в убежище во что бы то ни стало. Они хотят знать только то, что можно ощупать руками, и хотя им известно, что там, за стенами убежища, лежат безграничные пространства, они не хотят знать о них, они предпочитают узкую, ограниченную область ощупываемого пустым и страшным пространствам. Это те люди, которые при слове «бессмертие» говорят, что «это в их голове не укладывается».
– Мы и не хотим совсем выходить из убежища, – говорит второй слепорождённый.
Третий слепорождённый. Никогда мы не заходили так далеко. Совсем незачем было вести нас сюда!
Тогда слепая старуха, желая оправдать священника, говорит, что «он хотел, чтобы мы воспользовались последними солнечными днями, прежде чем запереться в убежище на всю зиму».
Но слепорождённый стоит на своём и опять говорит:
– А я предпочитаю оставаться в убежище!
Слепая старуха опять начинает защищать священника, и слепой старик поддерживает её.
– Он прав, – говорит он про священника. – Надо пользоваться жизнью.
Но слепорождённый не соглашается и высказывает излюбленную мысль слепорождённых:
– Мы и там всё равно ничего не увидим.
Характерен тот страх, который затем охватывает слепых. Это тот безотчётный панический страх, который иной раз овладевает всем существом человека и который Достоевский так удачно называет «мистическим ужасом»>399. Такому чувству нет места в христианстве: «В любви нет страха, – говорит апостол Иоанн, – но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви»>400. Блаженное, радостное, всё проникнутое идеей любви и непосредственным общением с Богом, христианство выше всего тёмного, тревожного, рокового…
Днём человек менее настроен к мистическому ужасу, ибо для него всё ясно кругом. Христиански настроенный человек всегда за стеной непосредственных ощущений видит и чувствует истинное бытие всеединства; он никогда не переживает ночи; потому-то, чем более слеп человек, тем сильнее действует на него неожиданное проявление этого тёмного и рокового. Страх слепых усиливается ещё тем, что они не знают, где они; не знают, откуда пришли они в мир и куда уйдут из него. А вопросы эти властно стоят перед взором.
– Надо бы узнать, где мы? – говорит третий слепорождённый.
– Этого узнать нельзя, – безнадёжно отвечает слепой старик.
Слепая старуха. Мы все приехали сюда уже слепыми!
Первый слепорождённый. А мы слепы от рождения.
Вопросы назойливые, страшные, ответов на которые нет, но которые, сознанные во всей своей глубине, может быть, способны, по крайней мере, указать направление, в котором лежит истина?
Но разве легко сознать их во всей глубине? Для этого нужно слишком много пережить, слишком много перестрадать. А слепорождённым не до того.
И опять один из них говорит:
– Не будем совсем выходить… По-моему, лучше уж совсем не выходить.
Здесь мы подходим к одному из самых трогательных моментов человеческой жизни – когда изверившиеся, измучившиеся своей слепотой люди вспоминают о своём детстве, о своей, может быть, наивной, но уж, наверное, самой чистой и непосредственной вере.
Да и как не растрогаться, когда перед изжившим человеком поднимаются Бог весть куда ушедшие времена! Делается жалко и себя, и других, и жизни… Особенно же грустно и как-то особенно больно делается оттого, что воспоминания эти касаются именно детского возраста.
– Я видел солнце, когда был ещё очень молод, – говорит слепой старик.
– И я тоже… Очень давно… когда я была ещё ребенком. Я почти и не помню.
А шестой слепой сохранил такую живую память об этих ушедших днях, что и сейчас иной раз напрягает все силы, чтобы вновь пережить ощущения света.
– Я люблю гулять днём, – говорит он. – Я знаю, что тогда бывает очень светло, и всеми силами напрягаю своё зрение, чтобы заметить этот свет.
Всё это говорят слепые, но слепорождённые думают иначе.
– И зачем он нас выводит? – говорит один из них. – Кто может видеть солнце? Я никогда не знаю, днём я гуляю или ночью.
А другой чистосердечно признаётся:
– А по-моему, всё-таки лучше сидеть в столовой около камина…
И вслед за этим признанием только своего убежища, только предметов, знакомых на ощупь, опять ужас проносится над толпою слепых: