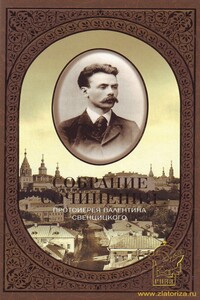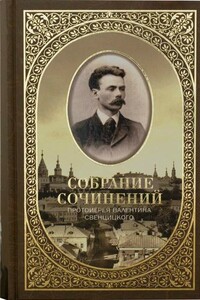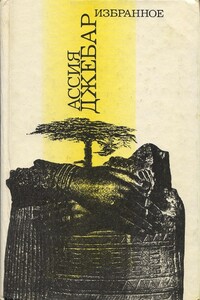– Господи, Господи! Где же мы? – восклицает слепая старуха.
– О, как мы далеко от убежища!
И снова во что-то нелепое и хаотическое сливается для них мир… Они не знают, где они, зачем они пришли на землю, они не знают, сколько время теперь, сколько ещё ждёт их впереди и сколько оставлено позади…
– Боже мой! Боже мой! Где же мы? – не перестаёт восклицать старуха.
Но понемногу страх проходит, и снова перед их померкнувшим взором мелькает прошлое.
– Это было очень далеко отсюда… Я видела солнце и странные цветы… Таких цветов нет на этом острове – здесь слишком мрачно и холодно… Как-то раз я смотрела на снег с вершины горы… Я так ясно помню, что я видела!
Итак, они помнят, они видели… Но почему они ослепли? Каковы их глаза сейчас?
– У меня веки закрыты, но я чувствую, что глаза у меня здоровы…
– А у меня веки открыты… – говорит другой.
– Я и сплю с открытыми глазами! – говорит третий.
Слепорождённым же не нравятся разговоры о глазах.
– Не будем говорить о наших глазах! – говорят они.
Но никто не может заглушить тех мучений, которые следуют из слепоты: страх и одиночество…
Слепой старик говорит:
– Мы никогда не видали друг друга. Мы расспрашиваем друг друга, отвечаем друг другу, живём в одном доме, мы всегда вместе и всё-таки не знаем друг друга!.. И руки не помогают…
– И дома, в котором мы живём, мы никогда не видали. Ощупываем руками стены и окна и всё-таки не знаем, где мы живём.
Слепота привела человечество к одиночеству. «Чтобы любить – надо видеть», «чтобы плакать – надо видеть». А тот, кто не может любить и не может плакать, не может не быть одиноким. Его одиночество – это тоска по утраченной, несознанной внутренней связи разрозненных единиц со всеединым целым, тоска по братской жизни, давно забытой как действительность, перешедшей в область «недостижимых идеалов», мучительная тревога перед жизнью, оторвавшись от которой человек противоставляется ей, а не сливается во внутренней гармонии. Жизнь становится чудовищной машиной, которая давит своим неизбежным и безостановочным движением. И робкая мысль в испуге пытается охватить хотя бы один момент совершающегося сразу на всей земле. Человек не чувствует связи с тем, что совершается там. Он одинок, и ему страшно становится; он с испугом прячется от жизни, подавляющей его; он ничтожен, беззащитен и слаб… Он не любит, не плачет, не знает других людей… А жизнь идёт, время бессмысленно и страшно двигается вперёд…
Слепой старик. А вам здесь не страшно?
Первый слепорождённый. Кому?
Слепой старик. Всем вам?
Слепая старуха. Да, страшно.
Молодая слепая. Нам уже давно страшно.
Наступает самый ужасный и самый торжественный момент драмы. Слепые убеждаются, что священник-проводник умер. Напряжение достигает своей высшей точки; дальше ждать становится невозможным. Второй слепорождённый говорит, что нужно идти:
– Всё равно куда! всё равно куда! Я не в силах больше слышать шум моря! Уйдёмте! Уйдёмте!
И вот шаг за шагом подходят слепые к холодному трупу проводника… Шумит где-то вдали море… Какие-то тревожные звуки слышатся в пещере… Руки ощупывают холодный труп… А кругом темно, темно без конца, и из этой темноты грозно смотрит на слепых вечная загадка смерти… От убежища далеко. Спокойствие и счастье потеряно навсегда. Жизнь погибла. Смерть торжествует надо всем…
Третий слепорождённый. Идите ближе ко мне! Где ваши руки? Как холодно стало!
Молодая слепая. О, какие у вас холодные руки!
Третий слепорождённый. Что вы делаете?
Молодая слепая. Я поднесла руки к глазам. Мне показалось, что ко мне сейчас вернётся зрение.
Молодая слепая, ещё недавно видевшая свет, перед безжизненным трупом почувствовала, что вновь что-то шевельнулось в ней, но осталась слепой…
И вот финал. Религия погибла. Проводника не стало. Вера угасла. Что же осталось? – Ничего, кроме безраздельной власти смерти. Она осталась, и только шаги её слышат слепые, а остальное всё молчит.
Молодая слепая. Тише! Слушайте шаги.
Слепая старуха. Ради Бога! Замолчите же хоть на минуту!
Молодая слепая. Всё ближе, ближе! Слушайте, слушайте!
Слепой старик. Это ребенок плачет?
Молодая слепая