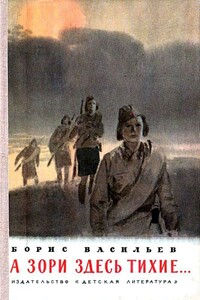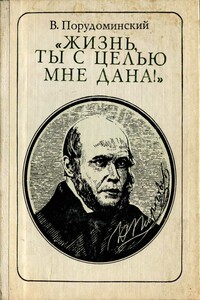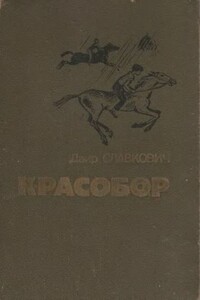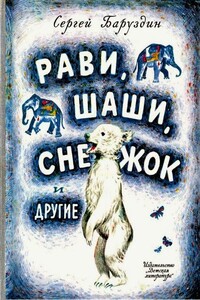О «ВРЕДЕ» ПРОЗЫ. «ШАТКИЕ» ВРЕМЕНА
В печке бьется, гудит пламя.
Даль сидит, согнувшись, в кресле у открытой дверцы — смотрит на огонь. Жжет бумаги.
Берет пачку бумажных листов, густо исписанных мелким деловым почерком, сует в печь. Пламя никнет на мгновение — в комнате становится темно, — но тут же снова вспыхивает ярко и весело, обдает жаром лицо, колени. Даль протягивает руку за новой пачкой.
Человек, который с казачьей сотней первым врывался в отбитые у противника города, не спит ночь, вспоминая каждое сказанное за день слово. Жжет бумаги.
Министр вызвал нынче, сухо спросил:
— Что за собрания у вас по четвергам и какие вы пишете записки?
Даль бегло просматривает заголовки: быт уральских казаков, описание башкирских селений, добыча полезных ископаемых на Урале, политика генерала Перовского в Средней Азии. Помедлив, сует листы в печь. Комната на миг погружается во мрак, потом пламя с жадностью набрасывается на добычу. Поднеся бумаги к самой дверце, Даль пробегает записи, сделанные в Петербурге. Характеристики государственных деятелей, интриги в правительственных учреждениях, дела об убийстве помещиков крестьянами…
Даль думает: какой великолепный материал для будущего историка!
Пламя, гулко ухнув, заполняет печь. Подбирает все начисто по краям и быстро стекает к середине. Яркой желтой тряпкой раз-другой всплескивает напоследок и гаснет.
После сожжения бумаг на сердце не успокоение — пустота.
Год 1848-й начался революциями. Во Франции, в Италии, в Германии, в Австрии. За одну февральскую ночь на парижских улицах выросло полторы тысячи баррикад. Король отрекся от престола, бежал.
Передавали, будто Николай I заявил решительно: «Пока я жив, революция меня не одолеет».
Чтобы не одолела революция, надо было закрыть шлагбаумы на пути губительных идей. Цензуры, и прежде лютой, показалось мало. Учредили секретный комитет для строжайшего надзора за печатью и для обуздания русской литературы. Всякий донос принимали на веру, не требуя доказательств.
Призвание доносчика не оставляло Фаддея Булгарина до конца дней. Списки преданных и проданных им писателей росли с каждым новым поколением в литературе. Булгарин сообщает жандармам свое мнение о Некрасове: «самый отчаянный коммунист», «вопиет в пользу революции». Для убедительности Фаддей припоминает в доносе «шайку Рылеева». А четверть века назад ластился к Рылееву, называл себя его другом. Потом предавал.
Умирающему Белинскому посылали на дом «приглашения» из Третьего отделения. О его статьях агенты докладывали: такие сочинения могут сделать молодежь вполне коммунистической. Жандармский генерал Дубельт, когда узнал о смерти Белинского, сокрушался: «Жаль, жаль, что умер; мы бы его сгноили в крепости».
Один из современников с отчаянием записывает в дневнике: «Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими… Стали опасаться за каждый день свой, полагая, что он может оказаться последним в кругу родных и друзей…»
Многие благоразумно повесили пудовые замки на уста. Рылись в шкафах, письменных столах, портфелях, уничтожали всякую бумажку, способную вызвать подозрение.
Красный цвет, который был для одних цветом боевых знамен и пролитой крови, стал для других цветом раскаленных углей в камине.
В том же 1848 году на квартире у чиновника Петрашевского собирались по пятницам люди, которые хотели увидеть Россию свободной республикой. Некрасов писал в стихах, что русскую поэзию палач бьет бичом на площади.
Даль отменил «четверги», жег рукописи.
Кабы знал, где упасть, так бы соломки подостлал.
Даль напечатал маленький рассказ «Ворожейка» — о том, как бродячая гадалка ловко обобрала доверчивую крестьянку. Вроде бы пустячный рассказ, да одно место в нем вызвало гнев бдительного секретного комитета. «Заявили начальству, — сказано у Даля, — тем, разумеется, дело и кончилось».
Как это — «разумеется»? Там, наверху, в комитете, тоже сидели доки по части толкования слов! Сочинитель намекает на обычное будто бы бездействие начальства. А сие, разумеется