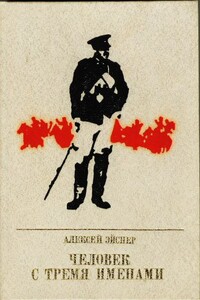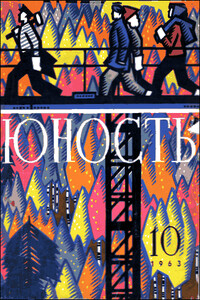Да, именно он, Петр Заичневский, тридцать три года назад объявил программу республики Русской в своей прокламации «Молодая Россия». Все шарахнулись от его листовки. Его осудил Чернышевский. Снисходительно побранил Герцен. Сам бесстрашный Бакунин испугался смельчаков «Молодой России». И как знать — не прокламация ли Петра Заичневского с товарищами наметила пути будущим комитетам и партиям, провозгласив цель политического движения — социальную республику Россию…
Старик… Кто этот старик, наблюдающий работу кузнеца? Это якобинец Петр Заичневский. Он, якобинец Петр Заичневский, смотрит, как кузнец в старой пупковой телогрейке, в кожаном фартуке, изогнув лошадиную ногу, примеривает полуфунтовую дорожную подкову, утешительно приговаривает, очищая копыто косым ножом:
— Балуй… Балуй, дура…
И всаживает в копыто гвоздь с одного удара. Плоские подковные гвозди торчат у него в петлях на шлее фартука, как газыри. Лошаденка взматывает головою, дергается, взметает хвостом, как от мух.
— Балуй…
А Голубев с этим красавцем удалились, радуясь неожиданной встрече.
Кузнец всадил последний гвоздь, загнул вылезший с внешней стороны копыта кончик. Лошаденка будто даже вздохнула, скребнув подкованной ногою.
— Так-то, Петра Григорьевич, — вдруг сказал кузнец, — все никак на Усольский тракт не выйдем…
Петр Григорьевич изумился:
— Кондрат! Тебя ж не узнать!
Оставив лошадь в станке, будто она его никак не касается, кузнец подошел к Петру Григорьевичу, обтирая ладони о фартук:
И дьявол сразу всего себя не показывает…
Петр Григорьевич шагнул навстречу. Странный спутник всей его жизни снова оказался перед ним, в новой ипостаси. И снова Петр Григорьевич отметил про себя, что спутник сей всегда удивительно соответствовал тому виду, который обретал. Сейчас это был придорожный кузнец, и не могло быть сомнений в том, что всю жизнь он только то и делал, что ковал лошадей. Кондрат, заросший, как леший, огромный (похожий на Бакунина), смотрел дружелюбно из-под кустистых седых бровей.
— Так-то… А я с утра маюсь… Сосет в грудях и сосет… К чему бы, думаю? Не иначе господь Петру Григорьича подкинет! И — как в воду!
— Я вот тоже, — улыбнулся Петр Григорьевич, — пляшет кобыленка и пляшет… К чему бы, думаю? Не иначе — раскуется! Ты-то чего благости набрался?
Кондрат прищурил левый глаз, приподнял правую бровь.
— Будто ты не знаешь…
— Откуда мне знать?
— А оттуда, бедовая твоя голова, что через пять годков, а именно в первый день генваря девятисотого года наступит конец света, страшный суд… — Кондрат перекрестился. — Столетний век кончается, Петра Григорьич, так-то…
Петр Григорьевич изумился:
— И ты туда же!
— И я, Петра Григорьич, и я, — печально, даже скорбно покивал Кондрат.
— Да ты же умный мужик!
— Господь не обидел… Вот за ум-то и взялся… Определился при деле. Слышь, — Кондрат шагнул ближе, сощурился, — в святой книге открылось — кто семь лет не грешил, тот войдет в царствие небесное… Я, Петра Григорьич, уже два года не грешу… С той поры, помнишь, как от губернатора убег… Осталось пять годочков перетерпеть…
Петр Григорьевич смотрел на Кондрата, смышленого, толкового мужика. Что это?..
Голубев в Иркутске показывал немецкую выписку «Невежество — демоническая сила, и она еще послужит причиной многих трагедий».
Петр Григорьевич смотрел в дикое, заросшее, истинно разбойничье лицо, на котором запечатлены следы всех пороков, и изумлялся страстному преображению этого давно знакомого лица. «Должно быть, — подумал Петр Григорьевич, — так и происходят чудесные превращения разбойников в святых, по банальным канонам житий. Ибо чье раскаянье сильнее раскаянья грешника?»
— Я так думаю, — негромко говорил Кондрат, знающе щурясь, — хоть раз в сто лет должна же являться правда на землю?.. — Придвинулся к уху. — Сказывают, ровным счетом сто лет назад — в точности к первому генваря сойдется — царя задушили… Слыхал?
— Будет тебе молоть вздор, Кондрат! Ты лучше вспомни, как при тебе царя растянули! При тебе! И что! Был страшный суд?
Кондрат засопел по-детски:
— Энтот царь не считается… Не под конец столетнего века пришелся. А тот, задушенный, пришелся к сроку.