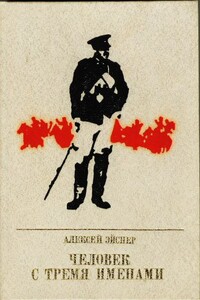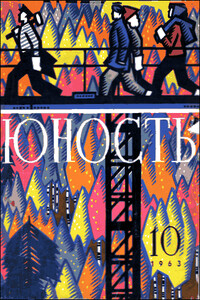Но лисья телогрейка на смотрителе была все та же.
Тогда смотритель жаловался на службу, бормотал вполголоса о невыгодах своего положения.
— Жизнь прошла, а в ушах одно осталось… Из России — лошадей, в Россию — лошадей… Теперь у нас чугунный тракт пойдет… Скорее бы… А мне — на покой…
Петр Григорьевич узнал старика и пожалел его: глаза смотрителя были пусты, бессмысленны. Должно быть, он уже никогда и ничего не боялся, и не потому, что преодолел служивый страх, а потому, что все было ему безразлично, в том числе и его собственная персона, невесть для чего и по какой причине мающаяся на постылом почтовом дворе.
Угроза коротконогого господина телеграфировать в Сенат подействовала на столпившихся странным образом. Все повеселели, как будто каждому уже запрягали упряжку. Гнев на смотрителя вдруг иссяк. Старик побрел к своей избе, шаркая по скрипучему снегу подшитыми валенками…
А в новом домике цокала занятная машинка, и ничего кроме новой напасти от той машинки ждать не приходилось. Будто и телеграф этот для того и придумали, чтобы краткость повеления изложить еще короче, чтобы упрятать от обозрения лик начальства и тем самым вознести сей лик еще выше человеческого разумения. Бес его разберет, кто там — за проводами, за столбами видит и слышит и властвует! Из медного колесика ползет змеею узенькая бумага, а на ней знаки, будто понарошку. Но знаки те читает по-русски телеграфический служащий, господин телеграфист, молодой ссыльный, забияка и весельчак из отставных студентов. Поди проверь его — так ли складывает, верить ли? Да и как не верить, если складывает он слова привычные русскому человеку от Гостомысла и безо всякого телеграфа: не рассуждать!
Гневавшаяся минуту назад толпа уже острословила беспечно, беззаботно.
— Разъезжаем взад-вперед, а Россия — на месте. Только знает — лошадей задерживать.
— А куда, собственно, торопиться в любезном отечестве?
— Как куда? Ночевать где?
— До ночи добудем возок…
— Господа! В нумерах — полная ванцеклопедия!
— Разумеется, — перстом кинул в двухъярусный сруб коротконогий, — господа путейцы выстроили себе приватные хоромы! Еще бы! Казна в их полном распоряжении! Вот кого — в каторгу! Ну, я до них доберусь!
Телеграф уже давно не был новостью в Сибири, однако здесь, на умирающей почтовой станции, Петр Григорьевич отметил, что сущность всякого великого изобретения состоит отнюдь не в том, чтобы враз изменить сложившиеся обычаи, а в том, чтобы оснастить старые обычаи новыми возможностями.
Голубев отправился было искать обывательских, но задержался возле кузницы: уж больно ловко работал кузнец, могучий, огромный, заросший.
— Он похож на Бакунина, ты не находишь? — спросил Голубев.
— По-моему, он похож сам на себя. И я его где-то видел… Ступай ищи лошадей…
Подошел молодой человек университетского виду лет двадцати с небольшим, худощавое румяное лицо — в неогустевшей бороденке. Была на нем хорошая енотовая шуба нараспашку и собачьи унты. Можно было принять его за приказчика небедной фирмы (сибирские купцы любили именовать свои торговые дома сим солидным нерусским наименованием), а возможно, и за купеческого сына. Но Петр Григорьевич по неведомой, необъяснимой причине, по опытному чутью определил иное: ссыльный. И — должно быть, следует на собственный кошт. Не под родительский ли присмотр, с дозволения начальства?
Вдруг Голубев бросился к юноше, как к старому знакомцу.
— Петр! Это же Карасев!
Юноша оказался сдержаннее Голубева.
— Дядя Сеня, — спокойно и улыбчиво сказал он, — сколько лет, сколько зим?
«Ах, вот оно что! — подумал Петр Григорьевич. — Дядя Сеня — старая кличка Голубева».
Юноша завернул небольшого Голубева рыжими полами шубы:
— А я думал, что еще застану тебя… Совсем?
— Под надзор, — сказал Голубев, освобождаясь от объятий, — в Смоленск…
— А кто этот старик?
— Как?! Это — Заичневский…
— А… Якобинец… — насмешливо сказал юноша. Петр Григорьевич слышал разговор, делая вид, что не слышит, что занят наблюдениями за кузнецом (левая пристяжная сбросила все-таки подкову). Должно быть, юноша — марксид. Они, молодые марксиды, особенно въедливо произносят слово якобинец. Они трактуют все на свете, исходя из единых экономических законов, которые ясны им, как простая формула пифагоровой теоремы. Впрочем, они не признают и теорем. Они владеют аксиомами, объясняющими все на свете ясно, четко и неопровержимо. Петр Григорьевич слушал, думал.