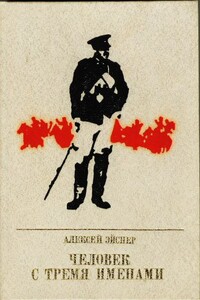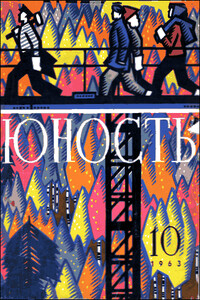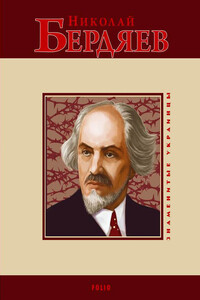Михаила Маркович Дубенский, будучи чиновником для особых поручений, предлагал изложить всероссийскую горечь верноподданно. Причину сего видел он в том, что редактор газеты Иван Иванович Попов все еще не утвержден в Санкт-Петербурге, и ради общего дела сохранения газеты в своих руках можно и покривить душою — все царствование было криводушным.
Проект Дубенского поддержал Свитыч.
— Отвяжутся, — сказал он, — отвяжутся и дадут писать потом…
— Потом в этой жизни не бывает, — возразил Петр Григорьевич. — Бывает — только сейчас!.. Да вот беда, ван Иванович… Вам хорошо: вы и редактор, вы и издатель… сами себя и посадите в кутузку, и закроете газету… Я же ведь — не себя, вас засажу своими проектами.
— Да подите вы к черту, господин якобинец! — закричал Попов, — жалостливый какой!
— Ну, уж коль вы так бесстрашны — извольте…
— Каково же ваше предложение?
— Предложение таково, господа: мы не вправе судить о царствовании, современниками коего являемся. Из скромности! Мы только отмечаем основные реформы, принятые в это царствование. А уж реформы таковы, что пальчики оближешь и сплюнешь…
Передовую статью напечатали так:
«20-го октября тяжелая весть о кончине Государя облетела всю Россию. Пройдет немало времени, прежде чем станет возможной всесторонняя и верная историческая оценка деятельности того Монарха, который 13 лет стоял во главе могущественной империи, ея именем говорил на советах Европы и своим словом не раз изменял те или другие устои государственной жизни многомиллионного народа. Нам, современникам, видевшим восшествие на престол покойного Монарха и теперь присутствующим при его безвременной кончине, можно не более как перечислить мероприятия, которыми ознаменовалась только что отошедшая в вечность 13-летняя полоса русской жизни».
Это было изящное определение царствования, политическая суть которого, по мнению Петра Григорьевича, сводилась вообще к двум словам: «Не рассуждать!»
Далее были названы «главнейшие мероприятия, которые навеки останутся соединенными с прошлым царствованием»: преобразование военных гимназий в кадетские корпуса, новый университетский устав, введение земских начальников, положение о земских и городовых учреждениях, о надзоре за фабрично-промышленными заведениями, переделы мирской земли — все эти мероприятия весьма походили на решетки и кандалы.
— Приличное кушанье на поминках, — сказал Петр Григорьевич, — теперь чего-нибудь на сладкое, пур бламанже…
— Строительство сибирской железной дороги, — сказал Попов.
Заичневский возразил:
— Но ведь это мероприятие — дельное…
— Ах, Петр Григорьевич, — сказал Иван Иванович, — в том соусе, который мы подаем, и дорога увидится приличной навозной мухой.
— Навознóй! — поправил Свитыч, — прежде всего в голову влетит казнокрадство на ней и связанное с не проникновение в Сибирь российского капитала.
— Западнороссийского, милсдарь! — рявкнул Заичневский, подражая генерал-губернатору. — Россия и здесь! Восточная Россия-с!
Он показал Горемыкина весьма похоже. Рассмеялись.
— Итак, — подвел итог Иван Иванович, — кладем дорогу…
С утра в редакции «Восточного обозрения» ликовала прибежавшие читатели:
— Господа, вы — герои! Теперь закроют газету! Дате вас обнять! Случится ли еще…
— Вы разверзли пропасть перед этой подлой и пошлой властью! Вы показали все ее ничтожество! Нет, господа, теперь не жаль, что газету арестуют!
— Бедный Иван Иванович! Теперь уж его никак не утвердят редактором. Но каково мужество! Я горжусь тем, что имел счастье пожимать его руку.
Петр Григорьевич всегда поражался странной черти хороших, умных, смелых людей — громогласно обнажать перед начальством то, что начальство, может быть, и не заметило бы. А и заметило бы, так пропустило, делая вид, что не замечает (ведь и в начальниках ходили люди, и не все они были глупцы). Но суетное хвастливо-опасливое, чуть ли не сладостное ликование вокруг острой мысли, талантливого слова — напечатанного ли, ненапечатанного — настораживало начальство сверх меры, сверх того предела, который оно, начальство, полагало для себя приличным. Ничто так не помогало начальству изводить крамолу, как настырное рвение крамольников.